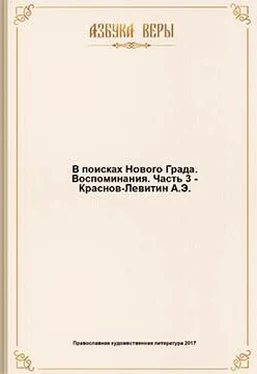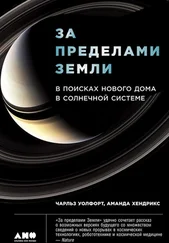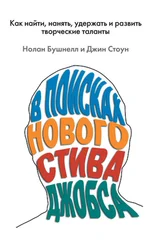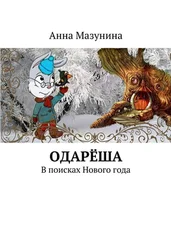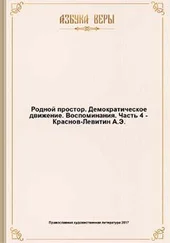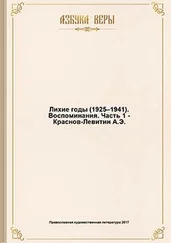«Была весна и ветер был,
Сказала ты: „Довольно,
Давно огонь наш отчадил“.
И стало весело и больно.
Свернул в Гребецкую, во мрак,
Легко здесь и спокойно,
Лишь пьяный возится впотьмах
И стих слагается невольно.
Коленце, угол и доска:
„Тут жил поэт — Михайлов“.
И грязь, и слякоть, и тоска…
Так застрелился Свидригайлов.
Да, здесь, у этой каланчи,
В такой, должно быть, вечер
Провыл последнее „прости“
Ему такой же ветер.
И я свое уж отчудил,
Легко мне и спокойно,
Давно огонь мой отчадил,
И лишь немного больно».
Ante lucem (Перед светом)
Предыдущую главу я окончил описанием пьяного вечера со школьниками. И эту главу я должен начать описанием пьяного вечера. Пьянел я всегда с одной рюмки. И сразу развязывался язык.
Однажды на учительском вечере я сказал директору: «Настоящий начальник у меня не вы, Михаил Маркович, — настоящий начальник на Цейлоне». В первый момент директор выпучил глаза. А потом посмотрел на меня испытующим и любопытным взором. И понятливо протянул: «А-а!»
В это время все газеты писали о конгрессе мира на Цейлоне и о пребывании там Митрополита Николая. Действительно, школа была лишь одним (и притом) не главным аспектом моей деятельности. Уже в первые дни моего пребывания на воле я установил связь с церковными кругами. Началось с очерка по истории Русской Церкви для готовящегося сборника о Православной Церкви, который должен был быть издан на шести языках.
Работал над этим очерком с увлечением. Вообще, как это ни парадоксально, писать я выучился в лагере. Преподавателем я стал в 19 лет и с тех пор привык все свои мысли излагать устно. Писал плохо. Диссертация, написанная мною перед арестом, написана так неряшливо и таким тяжелым слогом, что мне самому противно взять ее в руки. (Другим, вероятно, еще противнее.) И лишь в лагере, оторванный от живого слова, от возможности преподавания, я стал писать. Писал статьи, читал их ближайшим друзьям, уничтожал (одну из моих статей, впрочем, удалось вынести из лагеря Вадиму Шаврову, и она была потом даже напечатана в одном из парижских журналов). Поэтому, выйдя из лагеря, я стал с необыкновенным увлечением писать на дорогую для меня тему. Близким людям понравилось. Павлов, который отнюдь не склонен был к комплиментам: сказал; «Хорошо, легко», хотя и ополчился против ряда нецерковных моментов. Особенный гнев вызвало у него вставленное мною в очерк юношеское стихотворение об Александре Невском. Его от этого стихотворения чуть удар не хватил. «Это еще что такое?» — воскликнул он весь красный от гнева, перечеркивая стих. Редактор, более снисходительный, был более либерален: «Да, да, прекрасное стихотворение, — сказал он. — Шура (это уборщица), отнесите, пожалуйста, статью в машинное бюро. Пусть перепечатают ее без этой страницы».
Мачеха, Екатерина Андреевна, также похвалила, хотя и в своеобразной манере: «Диссертация твоя — произведение нормального человека, а здесь сразу видно, пишет одержимый». Она и сама не понимала, наверное, какую глубокую мысль высказала: писать надо лишь в состоянии одержимости или не писать вовсе.
Сначала все делалось через Павлова, а потом (в один прекрасный день) явился я в Новодевичий, в бывшие игуменские покои (над — вратами), где тогда помещался «Журнал Московской Патриархии».
Здесь я предстал перед Анатолием Васильевичем Ведерниковым, многолетним редактором журнала.
Так как с ним моя деятельность была связана (прямо или косвенно) в течение многих лет, не могу не рассказать и о нем (хотя это, конечно, не приведет его в восхищение).
Анатолий Васильевич — человек двадцатых годов. Крестьянский сын, уроженец Тверской губернии, Старицкого уезда (отец его, наряду с крестьянством, столярничал, умер сравнительно недавно, дожив до 90 с лишним лет). Крестьянский сын был первым на селе, который получил высшее образование (окончил университет). Вобрав еще в детстве крепкую крестьянскую религиозную традицию, он на университетской скамье увлекся русской мистической философией и богословием. Однако в двадцатые годы все было под запретом — работать в этой области было невозможно. По окончании университета — работа в школе учителем русского языка, потом в консерватории.
Не сладилась у него личная жизнь. Женился он по-крестьянски, в ранней молодости, в 19 лет; однако брак не был счастливым: вскоре ушла от него жена, оставив ему малолетнего сына Колю (ныне протоиерея, настоятеля одного из подмосковных храмов отца Николая Ведерникова). И жил Анатолий Васильевич бобылем вместе с сынишкой, работая с утра до вечера, зарабатывая себе на хлеб тяжелым учительским трудом.
Читать дальше