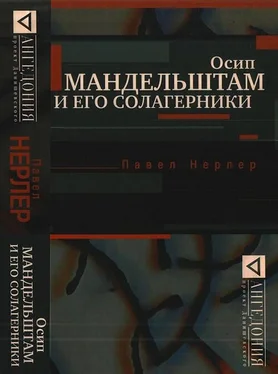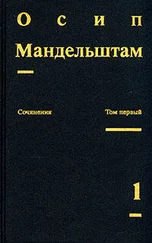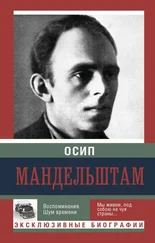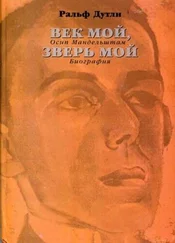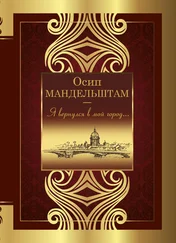Десятого марта — в день, когда в Ленинграде был арестован Лев Гумилев [129], — О. М. написал Кузину уже из Саматихи бодрое и оптимистичное письмо:
«Дорогой Борис Сергеевич! Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. „Имею право бить в бубен с бубенцами“. В старой русской бане сосновая ванна. Глушь такая, что хочется определить широту и долготу» [130]
Знакомая прозаическая отточенность и цепкость фразы говорят о бодром и чуть ли не о рабочем настроении. Уж не набросок ли это новой прозы?
Один из главных персонажей письма — музыка:
«Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калинине пластинку. Славянские танцы № 1 и № 8 действительно прелесть. Бетховенская обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость.
Шостакович — Леонид Андреев. Здесь гремит его 5-я симфония. Нудное запугивание. Полька Жизни Человека. Не приемлю.
Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю!»
Надо полагать, что 5-ю симфонию Шостаковича О. М. слушал по радио чуть ли не в первый же день своего приезда в Саматиху. Физическая ее премьера в Консерватории состоялась совсем недавно — 29 января, а 1 марта — там же — было ее второе представление [131].
Как бы то ни было, но ранней весной 1938 года, встав на лыжи и надышавшись сосновым воздухом Саматихи, Осип Эмильевич вновь почувствовал себя молодым и даже ощутил «превращение энергии в другое качество».
Оттого-то и доверяешься той особенной мажорности, с какою пишутся редкие письма престарелым и не с тобою живущим родителям, — именно ею пропитано единственное письмо, посланное из Саматихи отцу 16 апреля:
Дорогой папочка!
Мы с Надей уже второй месяц в доме отдыха. На два месяца. Уедем отсюда в начале мая. Отправил сюда Союз Писателей (Литфонд). Перед отъездом я пытался получить работу, и ничего пока не вышло. Куда мы отсюда поедем — неизвестно. Но надо думать, что после такого внимания, после такой заботы о нас, придет и работа. Здесь очень простое, скромное и глухое место. 47, часа по Казанской дороге. Потом 24 километра на лошадях. Мы приехали, еще снег лежал. Нас поместили в отдельный домик, где никто, кроме нас, не живет. А в главном доме такой шум, такой рев, пенье, топот и пляска, что мы бы не могли там выдержать: чуть-чуть не бросили и не вернулись в Москву. Так или иначе, мы получили глубокий отдых, покой на 2 месяца. Этого отдыха осталось еще 3 недели. Мое здоровье лучше. Только одышка да глаза ослабели. И очень тяжело без подходящего общества. Читаю мало: утомляюсь быстро от книг, и очки неудачные.
Надино здоровье неважно. У нее болезнь печени или желудка и что-то вроде сердечной астмы. Последняя новость — часто задыхается, и всё боли в животе. Много лежит. Придется ее исследовать в Москве.
У нас сейчас нет нигде никакого дома, и всё дальнейшее зависит от Союза Писателей. Уже целый год Союз не может решить принципиально: что делать с моими новыми стихами и на какие средства нам жить. Если я получу работу, мы поселимся на даче и будем жить семьей. Сейчас же приедешь ты, а еще возьмем Надину сестру Аню. Она очень больна. Квартиру в Москве мы теряем. Но главное: работа и быть вместе.
Крепко целую тебя. Горячо хочу видеть.
Твой Ося.
Жду немедленного ответа о твоем здоровье, самочувствии.
Остро тревожусь за тебя. Если не ответишь сразу — буду телеграфировать.
Сейчас же пиши о себе.
Лучше всего дай телеграмму: как здоровье.
Адрес мой: Ст. Кривандино Ленинской Ж. Д., пансионат Саматиха. Отвечай, сообщи о себе в тот же день.
И далее — приписка невестки: «Целую вас… Пишите… Надя». [132]
Да, действительно, Литфонд не только оплатил обе путевки в Саматиху, но и всячески озаботился тем, чтобы О. М. были «созданы условия» для отдыха (кто-то из Союза несколько раз звонил главному врачу, справлялся, как и что). Всё шло, пишет Надежда Яковлевна, как по маслу, без неувязок: и розвальни с овчинами на станции, и отдельная палата в общем доме, а затем, в апреле, — и вовсе изолированная изба-читальня, и лыжные прогулки, и предупредительный главврач [133]. Правда, в город съездить почему-то никак не удавалось, и О. М. даже однажды спросил: «А мы, часом, не попались в ловушку?» Спросил и тут же забыл, вернее, прогнал эту малоприятную догадку, благо под рукой были и Данте, и Хлебников, и Пушкин (однотомник под редакцией Томашевского), и даже подаренный Борисом Лапиным Шевченко.
Читать дальше