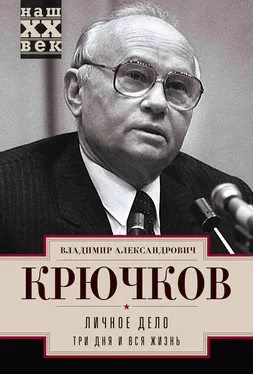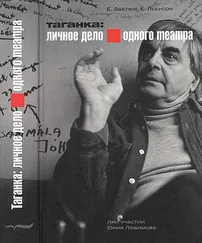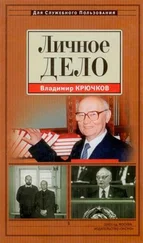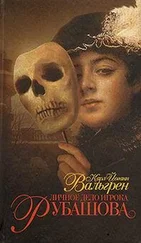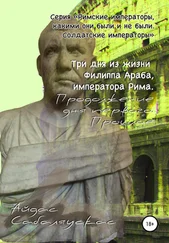Тизяков отнесся к этому внешне спокойно, заметив, что переживает не за себя, а за крушение надежд на спасение Родины. Душевная боль дополнялась разыгравшейся болезнью сердца, от которой он страдал последние годы.
Вскоре передали, что Горбачев собирается побеседовать со мной не в Форосе, а в самолете по пути в Москву.
Я зашел в комнату, где находились Лукьянов, Бакланов, Язов, Тизяков, и попрощался с ними, прямо сказав, что нас ожидает задержание и вряд ли будет возможность повидаться в Москве.
Дальнейшее развитие событий подтвердило мои предсказания. Дело было проиграно, попытка спасти Союз потерпела неудачу.
Это было не только нашим личным поражением, но и поражением народа, защитные, созидательные силы которого оказались незадействованными.
В общем кортеже в отдельной машине я проследовал из Фороса в аэропорт Бельбек. Радиостанция в машине уже была выключена, поэтому связаться я ни с кем не мог. Да, собственно, и сообщать особенно было нечего.
В аэропорту из-за возникшей суеты произошла несогласованность. Сначала мне указали один самолет, затем повезли в другой и только затем нашли самолет, в котором летел Горбачев, и последним усадили в него.
В самолете меня встретил Стерлигов, бывший сотрудник КГБ, в то время работавший помощником Руцкого. Он объяснил, что ему приказано меня сопровождать, и поэтому он хотел бы сесть рядом.
Пишу об этих подробностях только по одной причине: было много спекуляций об обстоятельствах моего задержания, и теперь мне хочется воспроизвести действительную картину.
Самолет был набит пассажирами, сопровождавшими, корреспондентами, охраной. Настроение у всех было невеселым, задумчивым. Стерлигов в разговоре со мной был сдержан, корректен. Я больше молчал. Впервые за несколько дней я немного подремал, и, по-моему, сосед удивлялся, как в этой ситуации я могу спать.
Вскоре от Горбачева передали, что, к сожалению, в самолете нам переговорить не удастся, так что моя встреча с ним состоится завтра, то есть 22 августа, о времени мне сообщат дополнительно. К этому сообщению я отнесся довольно безразлично, понимал, что со мной играют. Мысли опять ушли в прошлое. В голове пролетали картинки из жизни, последние дни почему-то всплывали реже.
Уже во время посадки я спросил у Стерлигова, сразу ли будет проведено задержание. Он ответил, что я верно оцениваю ситуацию. Никаких сколько-нибудь значащих разговоров я с ним не вел, не хотел подвергать его и себя искушению, ставить в неловкое положение, да и зачем? Было большое желание попросить передать слова утешения жене, семье. Воздержался.
Как только самолет произвел посадку, рядом со мной появились мощные охранники с автоматами наготове.
Мимо меня прошли на выход Бакатин, Примаков и как-то подчеркнуто вежливо попрощались со мной, пожелав всего хорошего.
Из самолета вывели не сразу, подождали, пока завершится церемония, связанная со встречей Горбачева. Провели к машине санитарного типа и там объявили о моем задержании. Сделал это Степанков — Генеральный прокурор России.
Я уточнил, от имени какой прокуратуры задерживают — союзной или российской? Получил ответ — от российской. Мое недоумение было оставлено без ответа.
В машине меня продержали около часа, как я позже понял, ожидали Язова и Тизякова, чтобы в одной колонне проследовать к месту содержания под стражей. Отправились из аэропорта в четыре часа ночи. Добирались медленно, часа три-четыре, с поломкой машины и небольшими остановками.
На место прибыли рано утром, едва рассвело; погода была слякотная, моросил колючий дождь, все выглядело мрачно, мерзопакостно. Разместили по отдельным небольшим домикам, с внешней и внутренней охраной.
Слегка привел себя в порядок; завтрак и сразу же первый допрос. Физическое и моральное состояние было тяжелым: бессонные ночи, полет в самолете, дорога в Солнечногорск. Сон буквально валил с ног, глаза открывались с трудом.
Личный обыск, протокол, другие формальности, связанные с задержанием, понимание разумом своего состояния — все сливалось вместе в какую-то огромную давящую тяжесть. Адвокат не присутствовал, что было грубейшим нарушением процессуальных норм — к сожалению, далеко не последним.
Первый в жизни допрос оставляет глубокий след, а точнее рану, на всю жизнь. Дело не в следователе, он выполнял свой служебный долг. Первый допрос врывается в душу, в сердце как совершенно противоестественное событие, задевает твое человеческое достоинство, не считается с тобой как с личностью, ломает привычный ритм жизни и, словно непомерный гнет, заставляет согнуться, ввергает в состояние беспомощности, бессилия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу