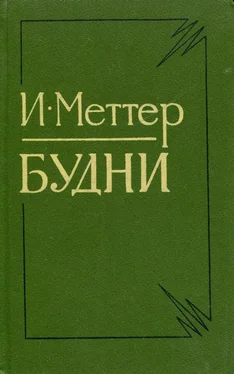Так было с Анной Андреевной Ахматовой. Ее следовало срочно устроить в хорошую больницу. Это ни у кого долго не получалось. Он отправил три телеграммы. Бешеные, как он любил говорить. Тогда получилось.
Пошел навестить ее в больницу. Все ходили к Ахматовой с цветами. А он принес — суп.
— Там же невкусно кормят. А Танька сварила ей замечательный суп. И старуха с удовольствием схарчила.
Его хлебосольство начиналось задолго до того, как собирались гости. Он сообщал с утра:
— Слушай, ты сегодня приходи. Я сейчас прошвырнусь по лавочкам.
Это случалось даже тогда, когда у него почти не было денег. Он ходил по продуктовым магазинам просто так — это у него называлось «прицениваться».
Он терпеть не мог, если писатель не знал, сколько стоят продукты, еда. И любил рассказывать, как Михаил Михайлович Зощенко рассердился, когда услышал, что один очень знаменитый литератор не знает, почем буханка хлеба.
Писателей, не ведающих, как живут люди на свою зарплату, он иронически называл «божьими избранниками»:
— Подумаешь, божий избранник! Сволочь такая. Жена вкалывает с восьми утра, а он продерет глаза в двенадцать и усаживается писать свои «эссе».
Перед сбором гостей он придирчиво осматривал стол — все ли поставлено, достаточно ли. И спрашивал близких друзей:
— Ну как? Ничего?.. А то я очень волнуюсь.
И при этом сам-то ел немного. Уже тяжело больной, сидящий на тоскливейшей диете, он требовал дома, чтобы гостей хорошо кормили и чтобы они ели при нем.
Иногда виноватым голосом говорил:
— Ты извини: я, понимаешь, сам уже не могу пробежаться по лавочкам…
Много раз совершенно серьезно утверждал:
— Если бы я жил до революции, знаешь, чем бы я занимался? Держал бы столовку для бедных студентов. Они бы ели, а я бегал бы вокруг стола и, вытаращив глаза, как чеховский герой в «Дуэли», кричал бы: «С перцем! С перцем!»
Он никогда не хвастал, ничтожно мало говорил о себе. Разве только в последние месяцы его жизни я услышал от него:
— Если бы ты только знал, как я себе надоел!
Когда я спрашивал изредка о чем-нибудь, что касалось его литературных успехов, он отмахивался:
— Ай, это никому не интересно.
Так же, как он никогда не жаловался на свои неудачи или на свое дурное настроение. Он вообще не терпел этого сочетания слов: «У меня плохое настроение».
— Понимаешь, мужик должен соблюдать гигиену: ведь ты не пойдешь в гости с немытым лицом или с нечищенными зубами? Вот и ныть не надо — это негигиенично для окружающих.
Даже за несколько дней до гибели он не разговаривал о своей болезни. Я спрашивал его:
— Ну как ты себя чувствуешь?
Он отвечал:
— Да брось. Это скучно.
Изредка только шутил:
— Вчера случайно посмотрел на себя в зеркало — я уже похож не на дедушку, а на бабушку.
Книги по медицине — в его библиотеке их было немало — он велел убрать от себя: догадываясь о диагнозе, не желал вникать в мрачную суть его, не желал «уходить в болезнь».
После него осталось мало записей. Он не вел дневников. Но одна из заметок, написанная на клочке бумаги, очень характерна для него:
«Как бы умереть, не кокетничая?»
Работал он до последних своих дней. Когда уже не стало сил сидеть за столом, диктовал стенографистке, лежа в постели. И очень этого стеснялся.
— Это так стыдно, — говорил он, — я почему-то лежу и диктую! Ты не представляешь себе, как мне неловко перед стенографисткой! Самое интимное наше дело — сочинительство — оказывается у кого-то на виду…
Влюбчивость его в людей была безбрежной и зачастую даже неразумной, подслеповатой. Достаточно рядовая его фраза по телефону звучала так:
— Слушай, ты сегодня непременно приходи. У меня будет один потрясающий человек, я от него абсолютно зашелся!
Или:
— Я тут познакомился с одним парнем — это совершенно грандиозная личность!
Нередко оказывалось, что люди, которыми он восторгался, вовсе не стоили того — он их частично сочинял, видя в них не то, что они собой представляли, а то, что ему хотелось бы в них различить. Наступало порой и прозрение — запоздалое прозрение, — однако Юрий Павлович не любил в нем признаваться, а может, и совершенно искренно забывал о своем былом восхищении. Во всяком случае, напоминать ему об этом было рискованно — он злился:
— Терпеть не могу людей, обожающих сообщать мне: «Я же тебя предупреждал, я же тебе и раньше говорил!..»
Склонность его натуры и писательского таланта требовала веры в прекрасное. Без этой веры он не мог бы заниматься литературным трудом.
Читать дальше