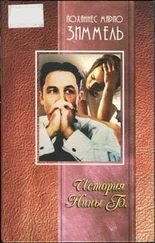Паспорта у Нины не было, и быть не могло! Дочь своего отца, — кулака, крестьянка, следовательно, — она с рождения и до смерти в стране «где так вольно дышит человек» по Дунаевскому и Лебедеву—Кумачу, приговорена была быть «крепостной девкой». И была ею «24 года ещё и в ипостаси…Киплинговского Маугли.
Тычкинский же «Документ», с десяток лет пролежав под стеклом директоров Фармацевтической Школы, до сегодня(?) висит в рамочке за спиною ещё одного нашего героя. Теперь — полковника (или уже генерала?) Григория Ивановича Зенина. Начальника Линейных отделов милиции Красноярского края. А тогда местного силового бугра, фронтового друга и напарника Аркадия Тычкина по «танковой езде». С 1951 — и моего друга…
А Нина? Ночами она — у постели Соошио. Всё тепло исстрадавшейся по маме души её, всю энергию с о с т р а д а н и я, не растраченную несостоявшимся уходом за умершей без неё мамы, отдаёт она войне — яростной и непримиримой — за каждый вздох ещё чужого ей, ещё не знакомого ей умирающего азиата. За чуть заметную, никому кроме неё невидимую и не чувствуемую никем, дрожь в теле его. За жизнь, значит, в истерзанных зверем и выбеливаемых подступающей смертью коченеющих его членах…
Возвращаясь вечерами с прииска Центрального домой, она ни на минуту — до следующего утра — не отходит от постели Кобаяси–сан. И все бесконечные часы, что проводит рядом с ним, ни на секунду не отводит взгляда своих внимательных голубых глаз с лица–маски, вызывающей у неё невыносимый ужас и бездну активного сострадания… Меняет окровавленные бинты и салфетки. Закладывает и уносит набухшие обильно сукровицей губки… И «не устаёт!». А ведь «всего–навсего», должна она «утром», — после тяжких до отчаяния ночных процедур, сжигающих не только энергию и нервы, но и разум, — остановиться на миг. Передать вахту у постели Соошио Альме, младшей сестре–подростку. Проглотить завтрак — она понимает, что это необходимо, иначе сама сляжет! Встать на лыжи. «Пробежать» 25 километров до аптеки своей на прииске Центральном (на картах — Южно—Енисейский) по дикой, без дорог и троп, безмолвной горной тайге. По дикому лесу, где в поисках еды шастает не один такой вот оголодавший до бешенства и потери страха шатун. Где ещё более добычливые и куда как несравнимо ловкие рыси ждут жертву в ветвях над лыжнею. Где бесстрашные росомахи–отморозки могут в любую минуту преградить путь. Где встретится может недобрый человек, любого хищного зверя страшнее…
А сорвать карабин с плеча можно и не успеть…
Уходит она из дома в пять утра. По темну прибегает в Центральный. С девяти до четырёх пополудни «составляет» по рецептам лекарства для больнички. И, встав из–за провизорского столика, снова бежит 25 километров по исчезающей в ночи лыжне к постели Соошио… Правда, и до японца — вот уже третий год по возвращении из Красноярска, расклад и темп жизни её тот же.
Если по–современному и точно — темп и расклад «Омеги» Спецназа.
Ночью из Новосибирска — таясь — прибыли врачи, посланные друзьями Аркадия. Но неделею прежде уже пришел вызванный Ниной, втайне от родителя её, «свой» ссыльный хирург Салман Аширов. Бывший профессор. «Пусть пьяница! Пусть наркоман!, — объяснила она возмущённому её «вольностью» отцу, — Но он врач! И не всё ли равно теперь Соошио — выдаст его кто–то, или не выдаст?»..
Отто Юлиусович сдался.
Работал Аширов с японцем около пяти суток. Пил, конечно. Как не пить. Кололся. Не выдержал бы иначе. Но… то был мастер! Хотя… Нине не по себе становилось, когда видела, как прикрытые перчатками и вооруженные инструментом руки его, обросшие седой шерстью, погружались — по локти — в разорванную плоть, двигались там, ш у р о в а л и, выискивали, — вслепую, казалось, — вытягивали, срезали и соединяли для шитья края плоти, не сраставшейся уже…
— Всё что здесь у Соошивой койки делается, это, парень, зрелище не
для молодой женщины!…, — сказал как–то Аширов. — Заменишь её ночью. И при мне чтоб духа её здесь не было! Ей, после дневных её марафонов, отдыхать надо. Понял?!
— Не понял! — кричал я, защищая право, которое Нина уже присвоила и, — я знал, — не отдаст никому. Тут же спросив себя: — А как же мама моя? Она на первой своей войне моложе была Нины на три года!
Он рычал что–то, — красивый дикой какой–то красотою, огромноглазый, — продолжая, как пекарь в квашне с тестом, «месить» внутренности японца. — Тебе не жаль её, дураку? — И настоял–таки на своём: работал теперь только в дневное время, когда Нина была на работе. Но, возвращаясь вечерами, она же видела всё, что происходило с Соошио без неё.
Читать дальше