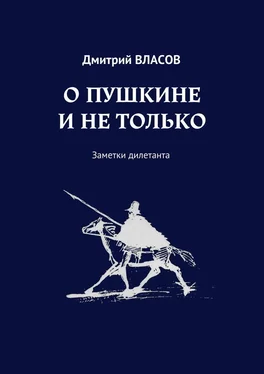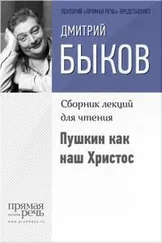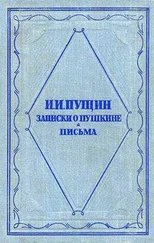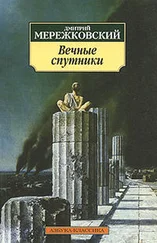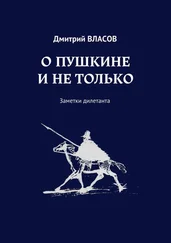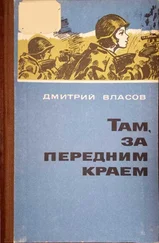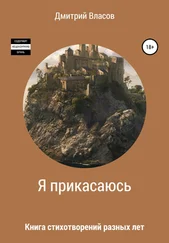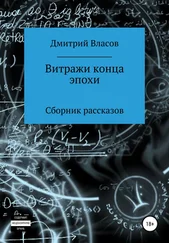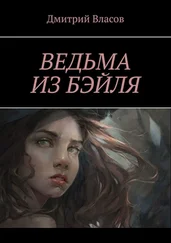Их посмертная литературная судьба тоже похожа. Пушкина после гибели редко печатали, и, значит, мало читали. Возрождение, полное признание и массовое издание произведений пришло через полвека, чему способствовало также и окончание авторских прав семьи. В 1880 году в Москве был торжественно открыт большой памятник работы А. М. Опекушина.
Лермонтов пробивался к нам ещё медленнее. На большинстве его произведений сноски о первой публикации датируются 60—70-ми годами XIX века, его музеи и памятники появились тоже позже пушкинских. 18 лет собирались средства на памятник Лермонтову в Пятигорске, на конкурсе победил тот же А. М. Опекушин и в 1889 г. памятник был установлен в центре Пятигорска. Первый же большой «столичный» памятник Лермонтову работы Б.М.Микешина был готов к его столетию и открыт в 1916 году в Петербурге (на тот момент — Петрограде). Тогда же и тем же автором был установлен обелиск у горы Машук в Пятигорске на месте дуэли. То есть, Пушкин получил свой главный памятник в Москве через 43 года после смерти, а Лермонтов — в Петербурге — через 75 лет. В Москве памятник Лермонтову установлен в 1965 году (скульптор И. Д. Бродский) на площади, которая носит его имя, и там же — мемориальная доска на высотном здании, построенном на месте дома, где он родился.
Да, не были они вместе при жизни, не были даже знакомы… Но по Литературе, по Истории литературы, просто по Истории мы их видим всегда рядом, а по жизни Лермонтов своим стихотворением «Смерть поэта» подхватил выпавшее знамя поэзии и знамя гражданственности через считанные дни после гибели своего и нашего кумира, за что тут же и поплатился… Зарубежные исследователи напоминают нам самим: «Россия создала великую литературу. Но вся история русской литературы есть история борьбы правительства с литературой…».
Есть место в Петербурге, на краю огромной Дворцовой площади. Отсюда виден дом на Мойке, 12, где жил, куда был внесён на руках смертельно раненный Пушкин и где через два дня он испустил последний вздох. Сделав пол-оборота, мы увидим с левой стороны площади длинный полукруглый фасад Главного штаба. Там на верхнем этаже была и гауптвахта, куда был помещён Лермонтов за стихотворение «Смерть поэта». И, наконец, над всей Дворцовой площадью господствует Александровская колонна, пережившая всех царей (с коронами и без), все революции, войны и бомбёжки, доставшиеся Петербургу — Ленинграду — снова Петербургу.
Но мы знаем (все теперь знают!) — «вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Заметим ещё, что В. А. Жуковский, ради публикации этого пушкинского стихотворного шедевра подправил в нём несколько строк, в том числе — заменил слова «Александрийский столп» «Наполеоновым столпом». Однако через много лет Александр I вернул себе честь быть сравниваемым с «главою непокорной» самого Пушкина… Они оба — Пушкин и Лермонтов — вознеслись главами непокорными выше всех и всяческих императорских столпов. Пора этот факт отметить общим памятником Пушкину и Лермонтову и неизвестно, будет ли он когда-нибудь. А вот место для него уже есть! Как раз в центре «условного треугольника»:
последнее пушкинское пристанище — дом на Мойке, 12;
главный штаб с гауптвахтой — местом пребывания Лермонтова сразу после гибели Пушкина;
Александровская колонна, выше которой в Санкт-Петербурге ничего не строилось.
Этот памятник как раз не будет высоким, но всё-таки какой-то постамент должен быть и на четырёх его гранях могут быть выбиты короткие надписи:
— « Они жили свободными людьми в несвободной стране и поэтому ушли от нас молодыми».
« Вознеслись они выше главами непокорными Александрийского столпа».
« Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ…».
(Да, пусть именно так ударит, встряхнёт каждого это прощание Лермонтова, пусть возмутится наш разум — ему это будет на пользу… Только поэт, так страстно любивший Россию, мог позволить себе так к ней обратиться).
И, наконец, предсмертные слова Пушкина, обращённые к своим книгам и ко всем нам:
— « Выше… ещё выше!».
Известно, что Пушкин в своей михайловской ссылке после декабрьского восстания ждал ареста, жёг бумаги. Следствие по делу декабристов находило его стихи и письма почти у всех активных членов тайных обществ, но было видно и то, что он не состоял напрямую ни в одном из них.
В то же время он надеялся в связи со сменой власти на перемену своей участи ссыльного, писал прошения, обещая быть законопослушным подданным. Ссылался на болезнь («аневризму ног»). Наконец, его вызвали и привезли в Москву прямо в Кремль к императору, не как арестанта, но в сопровождении фельдъегеря. Никто, и он сам, не знал, с чем и зачем он едет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу