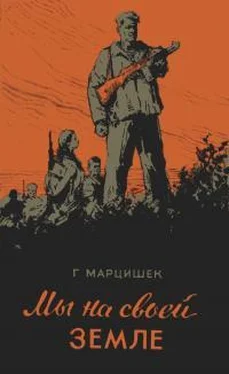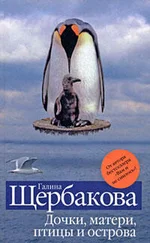Это обрадовало меня. Парторг Зелинский очень тепло относился к людям. Он умел вовремя ободрить, сказать товарищу единственно нужное слово. Сам он был выдержанным и исполнительным бойцом. Комсомольцы и дети называли его «дядя Костя», часто просили рассказать что-нибудь о своей жизни. Он уступал их просьбам, увлекательно рассказывая о том, как батрачил до революции, о борьбе с кулаками, о колхозе, где был председателем.
Идя рядом со мной, Зелинский спросил:
— Как ты себя чувствуешь? Не нужно печалиться. Думай о настоящем. За Ваню мы будем мстить, — вздохнул и продолжал — Много горя принес с собой фашизм. Но сколько волку не гулять, а конец будет!
Я вспомнила просьбу мужа…
— Константин Николаевич, — после продолжительной паузы обратилась я к Зелинскому. — В последние дни Ваня сильно томился, все просил меня, если что случится с ним, обязательно передать вам и Бадаеву, чтобы его считали членом партии. Ему казалось, что все еще мало сделал, хотел больше. Только тогда думал подать заявление о приеме в партию, да не успел.
— Я знаю… Иван Иванович настоящий большевик. Ты помнишь, как семнадцатого мы с ним ушли к железной дороге. Я видел его в деле. Мужественный человек, что и говорить. А какой требовательный к себе. Перед боем, за час до своей смерти, он не только проверил свое оружие, но и оружие ребят, сам прочистил пулемет и показал товарищам, что нужно сделать, если заест ленту. А вот о своих успехах и о себе не любил говорить. Жаль, мало побыл с нами.
— Мне хочется живой борьбы, а не стоять здесь в этих мертвых катакомбах. Хочется мстить, — поделилась я с парторгом.
— Уже то, что ты находишься в катакомбах, — месть фашистам. Они не могут быть спокойны, — строго ответил Зелинский. — Ты что думаешь, что охранять лагерь — маловажно. Нет, этим тебе оказано большое доверие. А нужно будет, так пойдешь и в разведку.
Из города вернулась Тамара Межигурская. С ней пришел черноглазый комсомолец по имени Ефим. Он работал в городе в разведке, пристроившись в полицию, но «погорел», как называли у нас тех, за кем начиналась слежка контрразведки оккупантов.
Появление в нашем лагере нового человека вызвало любопытство всех, в том числе и мое. Свободные от работы люди собрались в штабе. Я тоже пошла туда.
Десятилинейная лампа (единственная роскошь) скупо освещала наш подземный штаб. Бадаев сидел за столиком в своей любимой позе, склонив голову на ладонь левой руки. Ребята разместились кто где, некоторые просто на корточках, привалившись к стене. Все внимательно слушали Ефима.
— В городе жуть что творится… — рассказывал Ефим. — Во всех приказах пестрит слово: «расстрел». А в последнем приказе они грозятся расстреливать по 500 человек коммунистов за каждую диверсию.
Утром 25 декабря гитлеровцы погнали из города тысячи людей на Слободку в гетто, а часть — в сторону Очакова. Страшно было смотреть на несчастных стариков, женщин, детей. Мороз. Вьюга. А люди только в платье одеты. Им не разрешили взять теплые вещи. Некоторые по дороге падали, солдаты пристреливали их.
Я стоял на тротуаре в толпе. Многие не могли смотреть без слез на все это. Некоторые женщины пытались выхватить из колонны детей, но жандармы отгоняли их прикладами.
Я еще и сейчас вижу глубокого старика, который прошел мимо нас… Его голова была непокрыта, седые волосы растрепались. Подняв руки к небу, он громко проклинал бога: «Тебя нет! Если же ты есть, почему молчишь! Кто дал право убить человека!»
Ефим умолк. Руки товарищей сжались в кулаки.
— Вот поэтому-то фашизм и обречен на разгром, — поднимаясь из-за стола, сказал Бадаев. — Готовьтесь к очередной вылазке, — предупредил он товарищей.
Люди засуетились, осматривая оружие и снаряжение.
* * *
К нам подбиралась костлявая рука голода. Хлеб выдавали по сто граммов в день. В котел закладывали полусгнившую свеклу, а чтобы сдобрить это месиво, бросали горсти две отрубей.
Жители Нерубайского собрали нам около ста пудов муки, но забрать ее в катакомбы не было никакой возможности. Блокада все больше усиливалась. Оккупанты выселили колхозников и шахтеров из хат, расположенных вблизи катакомб, установили вокруг балки четыреста постоянных постов, несколько пулеметных гнезд. Каждая улица просматривалась конными и пешими патрулями. Всю ночь напролет солдаты, подбадривая себя, стреляли в воздух. Создавалось впечатление перестрелки. Узнав об этом, наши партизаны говорили:
— Меньше останется патронов для фронта.
Читать дальше