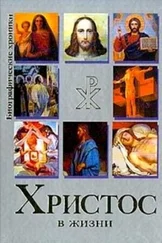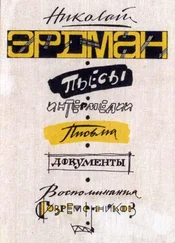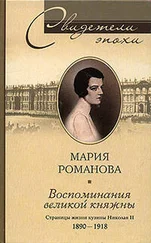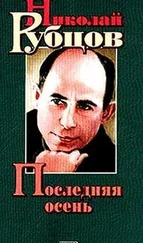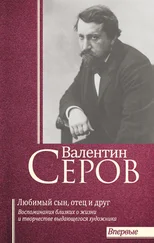Лет семи он сделался развязнее, и прежняя неповоротливость заменилась в нём даже резвостью и шаловливостью. Едва ли не с этих пор начал он писать стихи на французском языке, потому что в доме этот язык господствовал, да и гувернёры (часто сменявшиеся) были по большей части французы. Из первых его произведений в памяти семейной сохранилась поэма La Toliade, песнях в шести, которой содержанием была война между карлами и карлицами короля Дагобера. Эта герои-комическая поэма была написана после чтения «Генриады» Вольтера. Ни одного русского стихотворения не сохранилось от этого времени. Учителя Пушкина были иностранцы. Русскому языку и Закону Божию учил его священник Мариинского Института Александр Иванович Беликов, переводчик Массильйона и в своё время известный проповедями. Учился Пушкин небрежно и лениво, но зато рано пристрастился к чтению, любил читать Плутарховы биографии, Илиаду и Одиссею, в переводе Битобе, и забирался в библиотеку отца, которая состояла преимущественно из французских классиков, так что впоследствии он был настоящим знатоком французской словесности и истории и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому в письмах его не могли надивиться природные французы, в том числе и известный писатель Сен-При. Страсть к литературе и чтению развивал в нём и отец, любивший читать вслух и особенно мастерски читавший Мольера, и общество, у них собиравшееся; кроме Василья Львовича и другого двоюродного дяди, Алексея Михайловича, очень известного в московском обществе [91] Воспитанника Московского университета и переводчика Мольерова «Тартюфа»: Ханжеев или Лицемер , 1809 года.
, молодой Пушкин беспрестанно видал Дмитриева, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, графа Местра [92] Ксавье, недавно умершего автора известной книги: «Voyage autour de ma chambre» («Путешествие вокруг моей комнаты»).
и пр. Всё это возбуждало и настраивало мальчика к самодеятельности. Он начал писать стихи, которые обратили на него внимание. В «Воспоминаниях» Макарова читаем любопытный анекдот о застенчивости отрока-поэта. Уж тогда некоторые знакомые могли предвидеть в нём что-то особенное. Он справедливо говорил впоследствии про свою Музу:
В младенчестве моём она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростинка
Уже наигрывал я слабыми перстами. [93] Стихотворение «Муза». 1821 г.
К числу обстоятельств, которые могли поддерживать и питать поэтическое дарование молодого Пушкина, без сомнения, принадлежит то, что с 1806 года до вступления в Лицей он ежегодно проводил летнее время в деревне своей бабушки, сельце Захарьине, лежащем верстах в сорока от Москвы, по Можайке [94] О сельце Захарьине (правильно Захарово) см. примеч. 12 [87] О Пушкинских местах в Москве и Подмосковье новейшая работа: Волович H. М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья.— М., 1979. Там основная библиография. [Возврат к примечанию [94] ] .
. Там раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы, и Пушкин имел возможность обильно воспринимать впечатления народные. Он очень любил эту деревню, и в зрелом возрасте не раз посещал её, уже перешедшую к другому владельцу. Вспоминая об этой деревенской жизни, он рассказывал одному из друзей своих следующий анекдот. В Захарьине жила с ними одна родственница, молодая девушка, сумасшедшая. Её держали в особой комнате. Говорили и думали, что её можно вылечить испугом. Раз молодой Пушкин ушёл гулять в рощу. Он любил гулять, расхаживал, воображал себя богатырём и палкою сбивал верхушки и головки растений. Возвращаясь домой с такой прогулки, встречает он на дворе свою сумасшедшую родственницу, в белом платье, растрёпанную, взволнованную. «Mon frère, on me prend pour un incendie» [95] Брат мой, меня принимают за пожар (фр.).
,— кричит она ему. Дело в том, что для испуга к ней в окно провели кишку пожарной трубы. Догадавшись об этом, Пушкин спокойно и с любезностью стал уверять её, что она напрасно так думает, что её сочли не за пожар, а за цветок, что цветы тоже поливают из трубы.
В нескольких верстах от Захарьина, в большом селе князей Голицыных, Вязёме, на погосте старинной церкви (в которой, как и в селе, сохранилась память Бориса Годунова) [96] См. о Вязёме у Карамзина, т. XI, стр. 265 и ещё стр. 248. Везде ссылки на второе издание.
, похоронен брат Пушкина, Николай (род. 1802, ум. 1807 г.). Ни он, ни другой брат, недавно умерший, Лев Сергеевич, не были настоящими товарищами его детства — первый потому, что скоро умер, второй потому, что был моложе его. Другом детства Пушкина была до конца нежно любимая им сестра (старше его одним годом) Ольга Сергеевна. Она училась с ним вместе, была товарищем его игр, первым и единственным судьёю и ценителем его ребяческих опытов в стихотворстве.
Читать дальше