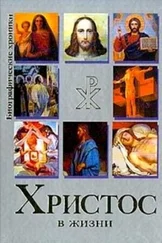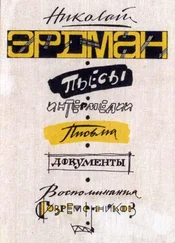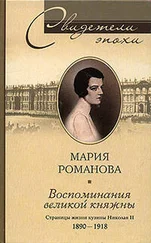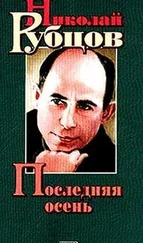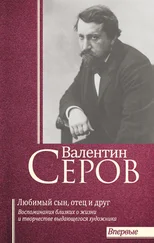На протяжении 1860-х — 1880-х годов Бартенев переписал, а затем и опубликовал несколько десятков дотоле неизвестных или печатавшихся в иной редакции произведений Пушкина. Переписывал с оригиналов, хранившихся у разных лиц, позже из «своеручных тетрадей», принадлежащих А. А. Пушкину, у которого приобрёл «по денежному соглашению» право публикации всего, «что найдёт в них нового».
Многие стихотворения Пушкина дошли до читателей впервые в окончательных или ранних редакциях благодаря Бартеневу, среди них такие, как «Пора, мой друг, пора» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И не только стихотворения, а и художественная и деловая проза. В третьей книге «Русского Архива» за 1880 год впервые увидела свет пропущенная глава «Капитанской дочки», с кратким комментарием. Затем были опубликованы неизвестные страницы «Дубровского», записка «О народном воспитании».
Особое значение придавал Бартенев собиранию и публикации незавершённых произведений Пушкина, черновиков и вариантов,— этой, по его словам, «художественной автобиографии великого поэта», полагая, что каждая пушкинская строка, каждое слово должны быть сохранены. «Откинутый и забытый рисунок гениального мастера, при всей своей недоконченности, иной раз бывает отменно дорог и замечателен» [34] Там же.— С. 167.
. Одним из первых он в должной мере оценил важность знакомства с черновыми рукописями поэта, содержавшими «то, что ему приходило на душу, что потом он развил в стройном великолепии и что покинул, как мысль неопределившуюся и недоразвитую, что хотел и чего не мог, или не рассудил выразить» [35] Там же.
.
Среди прочего Бартеневым были прочитаны и опубликованы с его комментарием не вошедшие в окончательный текст строфы «Медного Всадника», «Евгения Онегина», отдельные строки и варианты «Кавказского пленника», ряда стихотворений. Благодаря его усилиям впервые появились в печати «Воображаемый разговор с Александром I», отрывок из ненаписанной драмы «Вадим», отрывки из «Дневника» Пушкина, которому Бартенев придавал очень большое значение, критические статьи. Руководящим принципом для него было: «Всего важнее восстановить произведения поэта, как они были приготовлены им самим к оглашению или как он что написал, но не мог напечатать по условиям цензуры или каким иным».
До 1855 года — до выхода первого тома Собрания сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова — Бартеневым скопированы из «своеручных тетрадей» и различных списков сотни стихов: последняя часть «Деревни», «Чаадаеву», «Ф. Н. Глинке», «Вольность», «Кинжал», «Арион», эпиграммы… Текст стихотворения «Во глубине сибирских руд», переписанный С. А. Соболевским, Бартенев дополнил недостававшими четырьмя стихами. В эпиграмме «Собранье насекомых» расшифровал скрытые под звёздочками фамилии — Глинка, Каченовский, Свиньин, Олин, Раич. Тщательно выписаны «варианты и дополнения» к печатному тексту некоторых произведений в первом посмертном Собрании сочинений 1838 года, из тетради, принадлежавшей С. Д. Полторацкому. Иногда это варианты отдельных строк, например, в «Евгении Онегине»: вместо «мужик судьбу благословил» — «и раб судьбу благословил», иногда несколько строк, пропущенных или означенных точками.
Копии Бартенева, как указывал М. А. Цявловский, дают возможность установить раннюю рукописную традицию пушкинского текста. Первостепенное значение приобретает его колоссальный труд по копированию и публикации всего написанного Пушкиным в тех случаях, когда ни автографа, ни прижизненного печатного текста того или иного произведения не существует. Тогда бартеневская копия играет роль первоисточника.
К сказанному следует добавить, что на страницах «Русского Архива» Бартеневым было напечатано немало очерков и некрологов, посвящённых современникам поэта, их писем и других материалов, прямо как бы с Пушкиным не связанных, но характеризующих пушкинскую эпоху в самом широком смысле слова.
М. П. Погодин называл Бартенева «настоящим биографом», имея в виду его страстную увлечённость и редкую добросовестность в собирании фактов, относящихся к жизнеописанию Пушкина.
Действительно, задачу биографа Бартенев видел прежде всего в честном, объективном изложении фактов, характеризующих жизнь и творческую работу поэта. Он полагал, что факты должны говорить сами за себя и не нуждаются в пространных комментариях. В апреле 1862 года он писал П. А. Плетнёву по поводу «Материалов» П. В. Анненкова: «Как досадывал я на Анненкова, которого впустили в самый кабинет Пушкина и который больше умствовал в нём, нежели исполнял долг жизнеописателя» [36] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 234, оп. 3, № 47, лл. 34—35.
. А десятилетие спустя, в начале 1874 года, по-видимому в связи с выходом книги Анненкова «Пушкин в Александровскую эпоху», о том же писал П. А. Вяземскому: «Анненков имел доступ к бумагам, оставшимся после Пушкина; они были ему отданы в 1854 году, когда он издавал сочинения Пушкина. Удержав их у себя, теперь, вместо того, чтобы просто их напечатать, он разбавляет их своими рассуждениями и каверкается перед ними… Любое письмо Пушкина, по вашей милости украшающее „Русский Архив“ сего года, важнее и лучше целой статьи Анненкова» [37] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1407, л. 172.
.
Читать дальше