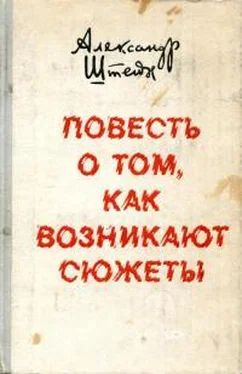Спустя год Всеволод Эмильевич Мейерхольд, не зная ничего об этом «тайном» разговоре Германа с Горьким, а слыша про роман одни лишь публичные похвалы, тоже скажет о «Вступлении»:
«Почти шедевр».
И Герман с горечью и тоской, припомнив ту горьковскую грозу, подумает:
«Что может быть хуже «почти шедевра»?»
И заметит — много позже:
«Что касается излюбленных страниц в моих же произведениях, то мне назвать что-либо трудно, почти ничего из опубликованного меня потом не удовлетворяет. Обычно, пока пишу — нравится, потом меньше, но все-таки еще кажется, что получилось то, о чем мечтал. А когда перечитываю то, что опубликовано, злюсь, особенно спустя несколько лет. Может быть, и этим объясняется мой упорный возврат к старым темам, образам, переработке старых произведений. Вероятно, есть какой-то разрыв между моей фантазией, воображением и тем, что получается на бумаге».
Герман пришел в гости, когда я сидел за пишущей машинкой. С мальчишеским, несколько невежливым любопытством смотрит на вложенный лист.
— Ты меня прости, но я совершенно не понимаю, как можно отстукивать литературу на пишущей машинке. Ну, статью, пожалуй. Но пьесу… По-моему, это все равно что сочинять на машинке стихи. Представляешь — Пушкин отбросит свое гусиное перо и начнет «отстукивать» «Я помню чудное мгновенье». Чудовищно!
— А Маяковский, кажется, писал на машинке…
Аргумент оставлен без внимания.
Незадолго до войны он купил себе пишущую машинку и развлекался ею, как рыбками в аквариуме и другой поздней страстью — кактусами.
Сидел за машинкой и одним пальцем «отстукивал» письма друзьям, ответы читателям, адреса на конвертах, заявления в издательства.
Его по-детски забавлял и восхищал сам процесс появления, волею его одного пальца, печатных букв, слов, фраз.
Во время войны приучается писать все — только на машинке и уже не может иначе.
Проникнувшись неукоснительно сознанием того, что надо писать из жизни и о чем знаешь, Герман неожиданно для самого себя садится за роман о некоем немецком юноше начала тридцатых годов, отпрыске миллионера, чьи страдания и походили и не походили на страдания гетевского молодого Вертера.
«После «Вступления» написал я роман «Бедный Генрих», книгу легкомысленную и неудачную, которую долго и упорно ругал Горький, а это он умел делать великолепно».
Книгу эту сам Герман не любил. Никогда к ней больше не возвращался.
Мне очень нравился роман, грешным делом. И новой, смелой для нашей тогдашней литературы экспрессионистской манерой написания, и сюжетом, и сутью. И читая десятилетия спустя послевоенные произведения западногерманских писателей, написанные в отчаянном душевном смятении, на духовном пепелище послефашистской Германии, на фоне ее экономического чуда, вспоминаю неудачную книгу Германа, где немецкий юноша уходит из дома миллионера в начале разгула фашизма. В «Бедном Генрихе» и этих произведениях — таких разных — было нечто близкое. Даже в сюжете. Даже в характере героев, тоже разных. Даже в их страданиях — молодых Вертеров двадцатого столетия. Даже в их отвращении к, порядкам, традициям, навыкам родительского дома, в ненависти к мещанской безвкусице в быту, в образе мышления, в образе жизни. И невыразимо мучительное ощущение действительности, с каким существуют герои…
«Ах, какое это горе в литературе, — сказал Горький при новом свидании, снова критикуя у Германа то, что ему не пришлось по душе, — приблизительность, пунктирность, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым».
Как же редко чувствует себя счастливым писатель, трезво относящийся к тому, что выходит из-под его пера или машинки!
Герман так настойчиво и не раз пересказывает потом эту мысль Горького, потому что она — и его мысль. Ею выражено то, о чем думалось все последние годы, когда он размышлял над написанным — своим, чужим…
Ах, худо, когда «не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым…».
Мейерхольд и Герман.И все-таки отзыв Горького свою миссию, в конечном счете, выполнил.
Германа заметили. Это помогло ему жить и работать.
Тогда, на турецком приеме, был и Мейерхольд. Некоторое время спустя пригласил Германа к себе в театр.
«…Все, что касается Лондона, у вас превосходно!.
— Нет у меня Лондона, — угрюмо пробормотал я. — У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин…
Мейерхольд кивнул.
— Да, да, Берлин. Я спутал… Действительно, Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте-ка, напишите нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно! Сядьте и напишите.
Читать дальше