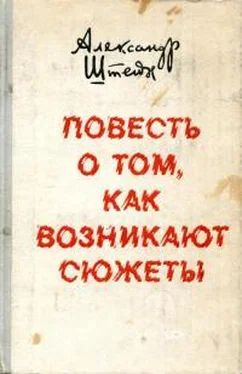Только для себя и на себя, — это, так сказать, я сам вынудил себя к пребыванию в одиночном заключении…»
Узнаю голос друга, измененный болезнью.
«Нет ничего тоскливее, ужаснее и бессмысленнее, чем одиночество, вызванное своим собственным взглядом на жизнь, на отдачу этой жизни».
Слова выговариваются старательно, раздельно. Как бы незримо расставляются знаки препинания, важное как бы подчеркивается курсивом.
И оттого еще явственней — у микрофона надломленный недугом человек.
«Когда человек до самого последнего дня своей жизни нужен другим людям… вот это и есть жизнь, вот это и есть для человека, и есть для себя».
Это радиоречь, посвященная его трилогии «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все».
Говорит о персонажах романа и о героях жизни, ставших этими персонажами.
Но в подтексте, как бы симпатическими чернилами, — и о себе.
Эта речь — последнее его выступление, последнее слово людям.
Да не подумает молодой читатель, всматриваясь в портрет моего друга, что время не внесет в его черты своей цветовой гаммы, не коснется его своей, нелегкой, порою, десницей.
Коснется — и не раз.
В заблуждении пребудет тот, кто по наивности станет разглядывать портрет вне его контекста со временем, не соотнеся биографию моего друга с биографией эпохи, в которой мужало поколение, страдало, смеялось, плакало, расшибалось, поднималось, шло вперед, отступало, надеялось, сокрушалось и — верило…
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…
Все было, не думайте, у сего обласканного рукой Горького литературного счастливчика.
Его литературная жизнь напоминала приливы и отливы, которые я наблюдал на берегу Кольского залива, у того самого студеного моря, которое описывал Юрий Павлович в своих северных повестях и романах.
Волна то набегает, с головою накрывая прибрежные валуны, то убегает назад, к океану, обнажая морское дно.
Пейзаж прекраснейший, но и строгий.
И право — похоже.
«Ура» и «караул» сменяли друг друга в литературной критике книг Германа, равно как анафемы и панегирики, признания, полупризнания, отрицания — полные, частичные.
А иногда было одно глухое молчание.
Трудится жадно, неуемно, прямо-таки с бальзаковской ненасытностью — рассказ за рассказом, сценарий за сценарием, роман за романом.
Его то переиздают подряд, без разбора и отбора, даже и то, с чем, по совести, не так уж надо торопиться.
А то фатально не хватает бумаги на книги, которые настойчиво требует читательская заявка.
То мелькнет год, в котором имя моего друга не будет помянуто хоть в крохотной аннотации, хоть в обычном «поминальном» списке, где перечисляются навалом фамилии-достижения.
То нет номера журнала, газеты, где так или иначе не склоняется это имя.
И снова молчание, словно бы и нет такого литератора — Юрия Германа.
Все это, если не ранит — жалит.
«Всю жизнь меня с кем-то путают…»
Одно тем не менее неизменно.
Потертые переплеты библиотечных книг. Исчирканные читательские формуляры.
Признание де-факто — читателя.
Оно — и в пору похвал и в пору молчания.
Свободный от «соображений», независимый от приливов и отливов литературной моды, от качания критического маятника — читательский интерес.
Он непреходящ — и это незаменимый, ни с чем не сравнимый писательский допинг.
Отсюда, наверно, и непрестанные встречи с читателями, охота к этим встречам, не ослабевавшая и в болезнь, — это надо сегодня вечером, чтобы завтра с утра сесть за письменный стол…
В ЛЮДЯХ
Горький и Герман.6 мая 1932 года заметка в «Правде» под названием «Встреча с турецкими и советскими писателями». Отчет о приеме в Доме ученых. Много приглашенных писателей, художников, режиссеров, артистов. На приеме выступает Горький.
«…Все чаще и чаще мы имеем явления исключительного характера. Вот вам пример: 19-летний малый написал роман, героем которого взял инженера-химика, немца. Начало романа происходит в Шанхае, затем он перебрасывает своего героя в среду ударников Советского Союза, в атмосферу энтузиазма. И, несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель. Я говорю о Юрии Германе».
И 6 мая 1932 года Юрий Герман становится знаменитым писателем.
«Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные.
Читать дальше