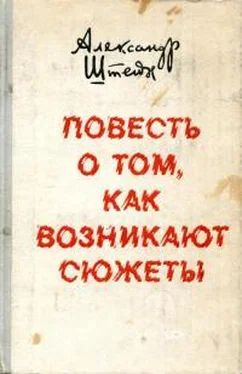Помнится, там была такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк». Не свихнется, — недоуменно размышлял я. — А почему, собственно, мне следует свихнуться?»
Почему?
Потому хотя бы, что автоматизм действует безотказно, магия горьковской похвалы, повторенной ТАССом, слишком неотразима, чтобы ей в силах сопротивляться журналам, газетным издательствам, общественным и литературным организациям.
Хотя бы и потому, что сказанные бегло слова одобрения на турецком приеме рассматриваются как индульгенция и как пропуск в журнально-издательский рай. И это в чем-то прекрасно, а в чем-то и страшно — прежде всего для самого молодого литератора.
…Все идет как по писаному. Вяло реагировавшие раньше на авторские предложения Германа издательства теперь наперебой предлагают договоры. Встрепенулись завлиты театров, киностудий. Дверь комнаты Юрия Павловича выходит на кухню, и жители коммунальной квартиры сквозь шум примусов прислушиваются к интервью, каковые дает их до того неприметный сосед газетным репортерам.
Словом, к литправщику газеты «Голос бумажника» приходит слава.
Герман приглашен в Москву, зван на горьковскую дачу, а потом в квартиру на Малой Никитской, когда писатели встречаются с правительством. Помню, в эту пору как-то задал я Герману вопрос, на который одни писатели отвечают с великой охотой, другие дрожа от ненависти.
— Над чем работаешь?
— Переписываю «Вступление».
— «Вступление»? Переписывать?
— Ну и что? Сколько раз переписывал Толстой «Войну и мир»? А ты, миленький, наверное, заметил, что я далеко не Толстой и даже не Шеллер-Михайлов.
И все-таки я в недоумении. «Вступление» переиздается, его требуют книжные магазины, в библиотеках на книгу — очередь.
Герман не обмолвился ни единым словом насчет того, что толкнуло его на непонятное многим, и мне в том числе, решение.
Боялся, что это нанесет удар его еще не оперившейся литературной репутации? Возможно.
Боялся испуга издательства? Вероятно.
Ведь никому не придет в голову, и издательствам в первую очередь, что Горький вытаскивает к себе на дачу молодого романиста вовсе не для лобызаний.
Горький учиняет разгром роману!
Да, да, разгром!
— Но какой! — воскликнет Юрий Павлович.
Правда, он расскажет о разгроме лишь несколькими годами позже… И — вполне благоразумно…
«Но какой!» — воскликнет он снова, уже десятилетиями позже, в своих воспоминаниях…
И летнюю грозу вспомнит, бушевавшую за распахнутым в сад окном, и летавшие по саду длинные листья, и сверкавшие длинные молнии, и «грозу» тут, в горьковском дачном кабинете, столь нежданно обрушившуюся на бедное «Вступление» и на него самого, автора, уже «приготовившегося слушать нечто прочувственное, комплиментарное».
Все это столь внезапно и столь непостижимо после публичных похвал, облетевших страну, что онемевшему Герману поначалу представится, будто бы и не о нем, Германе, идет разговор и не к «Вступлению» относятся все эти жестокие слова.
— Мне показалось, что идет речь о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится.
Бранил его Горький немилосердно — за языковые неточности, за стремление к афористичности, за общие места и за «гладкие», «казалось бы, без сучка и задоринки, обтекаемые фразы», за «одел» там, где надо писать «надел», и за «надел» там, где надо писать «одел», и за очень, очень, очень многое другое.
Слышится сквозь грозу и такой поучительный — отнюдь не для одного молодого Германа — диалог:
«— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?
— Один, — не без гордости заявил я.
— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство?»
И Горький советует скрывать такие вещи от людей, «как мелкое воровство, а не хвастаться ими».
«— Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости. — Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!»
Герман всю свою жизнь возился с рукописями молодых писателей, встречался не раз с оскорбительной для уважающих свою профессию литераторов скорописью, каковой иные еще и хвастают, почитая ее за некое моцартианство, хотя моцартианства тут на грош, а больше безответственного отношения к самому себе, и к своему делу, и к своему имени.
Полагаю — отсюда та нравоучительная беспощадность, с какой вспоминает Герман свое первое знакомство с Горьким.
«Горький прочитал и сказал мне угрюмо:
— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти».
Читать дальше