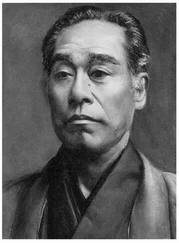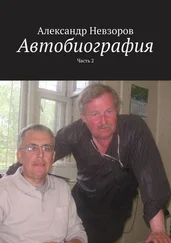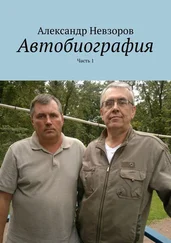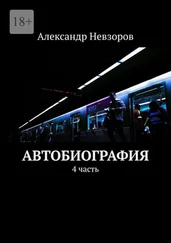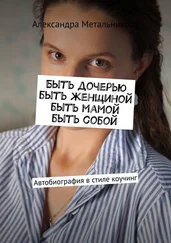Каплан поговорил со мной по телефону и удивленно спросил: кто в Казахстане занимается нейрокомпьютерными интерфейсами? Я ответила, что занимаюсь я. Я поняла, что в его представлении это должна была быть какая-то лаборатория с профессором, самостоятельно я до этого дойти просто не могла. Это меня задело.
У меня никогда не было никаких менторов, наставников, просто в силу своего характера я всегда была самостоятельной. Может быть потому, что я эгоистка, как охарактеризовала меня одна преподавательница в ВУЗе.
Я подумала, что лаборатория Каплана готова меня принять, собрала вещи и приехала в Москву. Однако оказалось, что для Каплана и его подчиненного Шишкина, с которым я вела переписку, мой приезд был полной неожиданностью и ни к какой научной работе меня пристроить они не могут.
После общения в лаборатории я зашла в одну из аудиторий МГУ ради интереса, где сидели студенты-магистры. Преподаватель задал какой-то простой вопрос, что-то вроде чему равен косинус угла Пи/2. Я ответ знала еще с математической школы, а студенты молчали.
Так как в лабораторию Каплана меня не взяли, я принялась рассылать своё резюме на вакансии программиста в разные организации Москвы. На тот момент мне было 20 лет и несмотря на то, что в дипломе у меня были практически одни пятерки, за исключением предметов вроде Истории Казахстана, на резюме никто не откликался, кроме организаций с совсем ужасными условиями работы. Надо отдать должное: в итоге мне все-таки предложили работу в паре-тройке нормальных мест, но после очень долгих поисков.
Тем временем я написала еще одной ученой, которая общалась в Интернете на российском форуме по нейронаукам, с вопросом: не могут ли они взять меня в лабораторию? Она работала в Росийской Академии Наук в Институте Высшей Нервной Деятельности. В лаборатории помимо неё работали еще пара сотрудников, заведующий-профессор и его сын лет сорока.
— У нас тут феодальный строй, — вздохнула женщина — научные должности передаются по наследству.
Профессор ответил, что с тем чтобы взять меня в аспирантуру, есть проблемы, так как я теперь, будучу гражданкой Казахстана, считаюсь иностранкой, и для меня аспирантура платная.
У ученой, с которой я познакомилась, был какой-то туповатый студент-дипломник из МФТИ. Она почему-то предложила мне: может вы ему поможете? Возможно, я не поняла, о чем речь, но мне стало неприятно: почему я должна работать на какого-то студента?
Он во всем хуже меня разбирался, хуже соображал, в общении был неадекватен и заносчив, но я видела, как для него делается все, а я никому не нужна. Пару лет назад я интересовалась его судьбой: он уже работает в какой-то заграничной лаборатории научным сотрудником.
Потом я все-таки пригодилась: в другой лаборатории МГУ понадобилось переконвертировать записи биоэлектрических сигналов из старого формата, который не открывался никакими современными программами, в нормальный формат Матлаба. Я сделала программу на Си шарпе, которая это выполняла и сотрудники очень обрадовались.
Со мной связался сын профессора лаборатории и предложил, что они будут неофициально, то есть в конверте, платить мне из гранта, а я буду выполнять задачи. Это мне по какой-то причине не понравилось, и я отказалась.
Официально меня на работу так никуда и не оформили.
Прошло четыре месяца с момента моего приезда в Москву, россияне отметили Новый Год. Жила я в то время на съемном койко-месте в квартире в Люблино за 5000 рублей в месяц.
После Нового Года внезапно объявился старый знакомый Каплан с радостной новостью о том, что меня готовы взять программистом в их научный проект. Но мне в этом предложении что-то пришлось не по душе. А именно: было такое чувство подспудное, что меня не уважают, а программирование рассматривается просто как техническая работа, которая не имеет отношения к науке. Якобы я просто реализатор чужих научных идей. В то время как племянник Шишкина был устроен в лабораторию научным сотрудником и занимался именно научной работой.
Я поссорилась с этими ребятами и уехала обратно в Казахстан.
К тому времени мне выслали приглашение на работу в немецкую лабораторию. Но возникла загвоздка: немецкий консул в Алматы отказывался выдавать мне визу, тянул и требовал дополнительных документов.
— Вы сами не знаете, чего хотите, — сказал консул.
Пробить эту стену непонимания помогли старые связи из Москвы. Ученая, которой я помогала расшифровать данные из старого формата, удивленно сказала, что в Германии приняли закон, согласно которому люди, кто едет заниматься наукой, освобождены от предъявления определенных документов и проверок. Я нашла этот закон и отнесла его в консульство, после чего мне неохотно выдали визу.
Читать дальше


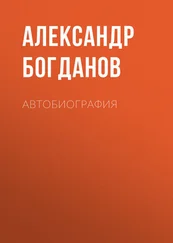
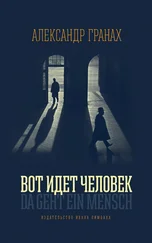
![Екатерина Элбакян - История религий [2-е изд.]](/books/410043/ekaterina-elbakyan-istoriya-religij-2-e-izd-thumb.webp)