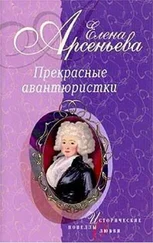В конце своей жизни отец страстно увлекся рисованием. В особенности портретами. Он рисовал везде и всех. В трамваях, в поездах — неизвестных ему пассажиров. Стоило ему где-нибудь присесть, сейчас же из кармана вынимался маленький альбом и карандаш. Рисовал всех знакомых, без конца заставлял позировать нас с мамой. Его портрет Есенина, сангиной, был опубликован несколько лет тому назад. Последние два года он занимался рисунком и живописью у Шухаева и Яковлева. Шухаев высоко отзывался о его способностях и удивлялся быстроте его успехов. Интересно, что в это же время у этих же художников учился и Николай Павлович Акимов. Может быть, даже наверное, они и встречались. Знакомы не были. Николай Павлович был еще совсем мальчиком, а отец очень взрослым человеком.
Думаю, если бы он прожил дольше, он стал бы настоящим художником. Очень уж настойчиво и одержимо он отдавался этому занятию. Нашел под конец ту область искусства, которой мог бы посвятить себя целиком.
Отец мой умер от «испанки» в восемнадцатом году. Ему не исполнилось и тридцати шести лет.
Был вечер, не то в «Бродячей собаке», не то в «Привале комедиантов», а может быть, в «Цехе поэтов» — не знаю точно. Выступал Маяковский. Отец был им увлечен. Вспыхнули споры, отец принимал в них участие, очень разгорячился. Он был подвержен простуде. Наутро — температура выше сорока. Меня отправили к дедушке. Я прожила у него около недели. Спала на диване в столовой. Там стояли большие старинные часы с низким, тяжелым боем. Мне не мешал этот бой. Я крепко засыпала в восемь часов, ничего не слышала и никогда не просыпалась.
И вдруг однажды ночью я вскочила. Били часы. Я сосчитала — десять ударов. С какой-то невероятной тоской подумала об отце. Заплакала и в слезах заснула.
Утром дедушка вошел в столовую и сказал: «Твой папа умер».
Во время болезни отец не приходил в сознание. Перед смертью, в бреду, он вскочил с постели, побежал в детскую и наклонился над моей пустой кроватью. Упал. Сказал, почему-то по-английски: «More light!» (последние слова Гете — «Mehr Licht!» — «Больше света!»), и все кончилось. Было десять часов вечера.
Утром меня отвели домой, к маме. Она сидела на любимом папином диване у него в кабинете, совсем седая.
Ей было двадцать семь лет.
В конце своих стихов, посвященных четырем его друзьям, отец написал о себе самом так:
Блюдя обычай Возрожденья,
Скажу ль о пятом слова два?
В его сознаньи от рожденья
Двух рек сливались рукава,
Две несогласные стихии:
То грезить о скитах России
На крайнем севере страны
В печалях снега и сосны,
То в жизнерадостности дикой
И с пеньем в трепетной крови
Все силы жертвовать любви
Непостижимо многоликой
И жизни солнечную нить
Глазами жадными следить.
На стене у меня висит портрет моего отца работы художника Браза. До войны он всегда находился в маминой комнате. Во время блокады мы улетали из Ленинграда почти без вещей. Мама была уверена, что мы вернемся. Портрет дождется нас.
Кончилась война. Мы возвратились домой. Портрета не было. Как ни странно, сохранились какие-то вещи, которые можно было использовать как дрова. На их сохранность никто не рассчитывал. А портрет исчез. Мы погоревали немного, но что делать. И не то теряли люди во время войны.
Прошло несколько лет. И вдруг мне звонит известный ленинградский коллекционер профессор Борис Николаевич Окунев.
— Скажите, пожалуйста, вашего дядю, художника и архитектора, писал Браз? Дело в том, что в одном комиссионном магазине, продается портрет, хочу его купить. Я всегда люблю знать, кто изображен на приобретаемом мной портрете. С вашим дядей мне приходилось встречаться, по-моему, это он. Но я хотел бы удостовериться.
У меня что-то шевельнулось в груди. Я знала бразовский портрет отца. Никогда не слышала, чтобы дядя Шура ему позировал. На всякий случай я спросила у мамы.
— Это твой отец, — сказала она, и голос ее дрогнул.
Борис Николаевич любезно отказался от покупки и предупредил в магазине, чтобы портрет отложили для меня. Я очень благодарна ему за это.
Сейчас же помчалась на Невский и на втором этаже комиссионного нашла портрет своего отца.
Мы не интересовались, как он попал туда. Это было неважно. Важно, что он вернулся домой.
Не помню, ходили в двадцать первом году трамваи или нет. Впрочем, несложно это выяснить, но не в этом дело. Вероятно, ходили, но все передвигались по городу пешком. На любые расстояния. То ли ждать приходилось слишком долго, то ли по привычке.
Читать дальше