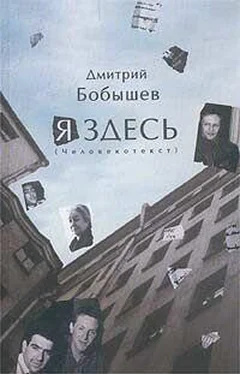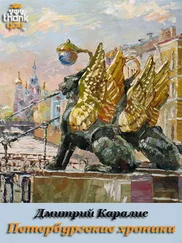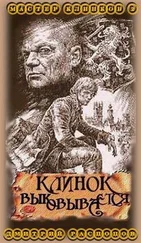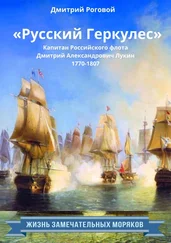Жизнь стремительно паршивела на всех уровнях: Хрущев изматерил художников, — его идеологические воеводы только радовались. И кто-то еще называл это оттепелью? Происходило типичное закручивание гаек, появились даже явные признаки культа “нашего дорогого Никиты Сергеевича”, как масляный блин, улыбавшегося с разворотов газет и настенных плакатов. Народная молва отвешивала по его поводу анекдот за анекдотом, но и он не оставался в долгу. Кукуруза — вот был один из самых дорогостоящих и нелепых правительственных анекдотов. Что же касается шутников из народа, то для них в Казахстане, как поговаривали, открылись новые лагеря. Или это тоже была шутка?
Вход в литературу сузился до игольного ушка. Рид Грачев сошел с ума, биясь головою о стенку, но Андрей Битов продавился-таки сквозь тесные врата, выпустил книжку торопливых рассказов, почему-то назвав ее “Большой шар”: в ней не было такой уж крупной законченности, как обещало заглавие. Подарил мне, надписав дружески, я и не стал придираться. Лишь ответил стихотворением открыточного размера, которое заканчивалось строчками: “Пускай еще понежится рассказ, / пока твердеет соль мировоззренья”, то есть содержало намек на незрелость книги. Почему-то ее взахлеб расхвалила “Литгазета”, причем опять-таки почему-то — за юмор. Что ж, повезло… Талант, труд и удача — что еще нужно писателю? Все есть, и даже чувство юмора имеется… Еще здоровье, — подсказывает Даниил Гранин. Конечно. А что сверх того? А вот если наличествует брат Олег, и он заведует отделом в “Литгазете”, то это очень многому способствует: и появлению похвальной рецензии, подписанной главным редактором, и изначальным связям с издательствами и писательской организацией… Постойте, постойте, а не тот ли это Олег Битов, который позднее, в самом конце холодной войны, взял да и сбежал в Англию? Тот. Намутил что-то в прессе, разоблачал кого-то, а спустя короткое время так же вдруг вернулся назад, в ту же “Литературку” как ни в чем не бывало, где его сразу и прозвали — “наш засланец”.
Сам Битов такие объяснения опровергал. Но — ширился.
В моем случае приходилось довольствоваться толстовской притчей о лягушке, попавшей в сметану: бить лапками. Только масло, увы, все не сбивалось. Чего только ни придумывалось: уйти в переводы, в детскую литературу, в кино, даже в юмор, но, лишь используя это как переход, как трамплин для полета в свободную поэзию. Многое манило, я тратил усилия, однако результаты были ничтожны. Пудами, центнерами утраченного времени висело на шее ежедневное ярмо: п/я 45 с восьми до пяти (часовой перерыв на обед) плюс черные, выброшенные на помойку, субботы. Даже в Москве такого не было. Какой-то остроумец назвал Ленинград городом белых ночей и черных суббот. Вот уж воистину! Кроме того, мое отношение к ядерной бомбе, которую я, в числе других интеллектуальных муравьев, продолжал разрабатывать и усовершенствовать, ухудшилось — дальше некуда: она мне попросту надоела.
Между тем в нашем нешироком кругу лишь Жозеф с самого начала достиг этой цели: он был свободным поэтом. Худо ли, бедно ли, но его поддерживали родители, и блинчики с творогом, пусть с упреками, пусть остывая, но ждали его на столе. Это была свобода без независимости.
Найман бурно бросился в переводы: еще бы, соавторство с Ахматовой ему гарантировало издание переводов Джакомо Леопарди, хоть и мрачного старомодного романтика, но безусловно и бесконечно далеко отстоящего от угодий соцреализма. Отдохновенно далеко! И даже буквально до него было: “… расстояние, как от Луги / до страны атласных баут”.
Рейн целил ближе — в научпоп, стал писать сценарии для документальных фильмов, но в перспективе имел в виду Сценарные курсы в Москве, означающие двухлетнюю стипендию, то есть хлеб и крышу над головой, бесцензурные кинопросмотры и возможность завязывать узы делового приятельства с кем и насколько угодно.
Туда же потянулся и Авербах и действительно нашел для себя все сокровища жизни. И — себя самого.
Туда же, после, и Найман, и потом Еремин.
Виктор Голявкин, обэриут наших дней, пустился размазывать свой слишком уж емкий, концентрированный талант в детской литературе. Тем же занялся и Вольф, тоже разбавляя свой дар, и еще жиже. Жанр обязывал.
Я потоптался вокруг журнала “Костер”, — меня привлекали к нему две причины: во-первых, его редакция располагалась на Таврической, через два дома от моего, в прелестном строении позапрошлого века, которое теперь уже уничтожено. Во-вторых, моя тетка Наталья Зубковская (Таля) работала там до войны, у нее хранились переплетенные в пламенный дерматин выпуски “Костра” за много лет, и я унаследовал от нее родственные чувства к журналу. Но там прочно засел Леша Лившиц (впоследствии — Лев Лосев), и он обдавал меня льдом всякий раз, когда я заходил туда по-соседски да и по-литераторски тоже.
Читать дальше