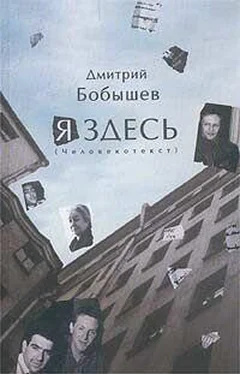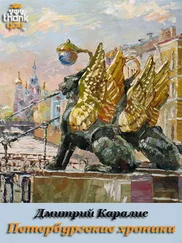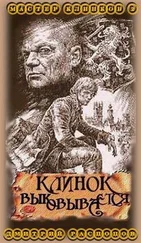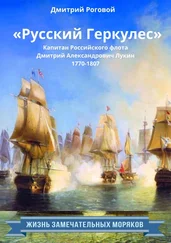Я говорил о “Форели” с Геннадием Шмаковым, считавшимся единственным в тогдашнем Союзе специалистом по Кузмину. Мы сидели за круглым столом, пили, кажется, чай. Золотой ангелок летел, отталкиваясь от Петропавловского шпиля в моем окне на Петроградской стороне. Шмаков вписал в мой экземпляр книги вымаранные цензурой строфы, имеющие отношение к кронштадтскому мятежу. Но его толкование главного образа — форели и ее ударов о лед поразило меня своей плоскостью:
— Этот образ имеет чисто эротическое содержание.
— То есть?
— То есть удары пениса в анус растопляют лед нелюбви.
Бедный! Он все свел к способу совокупления… Эти “пенисы-анусы” свели его бесповоротно в могилу. Он уехал в Нью-Йорк и поселился в полуподвальной каморке, но не где-нибудь, а на Пятой авеню. Когда я побывал у него в 80-м, он был захвачен знакомствами с небожителями балетного и литературного миров, но мы обещали держать друг друга в поле своих общений. Через некоторое время на мой телефонный звонок отозвался незнакомый насмешливый голос:
— Who? Mr. Shmakov? Hah! Is this a name?
— Yes, it's the name. Is he around?
— No, Mr. Shmakov's gone. Hah-hah-hah!
“Шмак” — означает на нью-йоркском английском какое-то малоприличное, но популярное понятие — до сих пор не знаю, какое точно, а “уехал” и “умер” звучит одинаково. Я повесил трубку и вскоре узнал, что он умер от СПИДа.
А ведь катакомбные христиане означали Иисуса Христа тайным знаком рыбы, по сходству Его имени со словом “Ихтос”, и Кузмин это, несомненно, знал. Знал он и об “Общем деле” Николая Федорова и, несомненно или хотя бы возможно, чаял воскрешения мертвых. Во всяком случае, некоторые из его поэм представляли собой модели такого воскрешения, пусть не совсем удачного:
Живы мы? И все живые.
Мы мертвы? Завидный гроб!
Давид Яковлевич Дар не разделял массовых вероучений, но в Бога верил — своего, индивидуального. И — в самого себя, такого, каким Бог его создал, со всеми своими неблаговидностями. Он писал: “… Я уже не знаю, что такое похоть: то ли это дух, воплощенный в плоть, то ли плоть, проявляющая себя в духе. День и ночь гремит во мне оркестр моей похоти…” Мало кто способен на такую откровенность. Более того, Андрей Арьев напомнил мне однажды очаровательную фразу из “Дневника” Дара:
— Вот и старость пришла. А где же мудрость?
Кто знает, может быть, он был столь же искренен, щедро раздавая литературные комплименты своим любимцам, угощая их коньяком и давая им деньги взаймы?
В середине 70-х Веру Панову разбил паралич, и Дар окружил ее своей и наемной, конечно, заботой. Многие литературные бездельники, включая Довлатова, зарабатывали у него на хлеб и пиво, читая вслух для больной и полуслепой писательницы или записывая ее, как они говорили, “религиозные бредни”. Наконец она умерла, и ощипанный после тяжбы с другими ее наследниками Дар надумал уехать в Израиль. К тому времени тяготивший меня самого душевный осадок неодобрения Дара и его наставнической роли уже прошел, и я отправился к нему прощаться. У него находилась публика, отчасти знакомая мне. Я был к тому времени уже матерым изгоем, напечатавшим в периодике лишь несколько искаженных отрывков; он стал изгоем совсем недавно, решившись уехать, и я получил от него все долгожданные похвалы за независимость, а он — от меня. Мы выпили по рюмке коньяку, и вдруг зазвонил телефон. Выкрикнув несколько резких отрывистых фраз, Дар шваркнул трубкой об аппарат. Это, оказывается, звонил Глеб Семенов с осуждением его за предательство по отношению к родине, родной литературе и пишущей молодежи…
— Я рад буду умостить своим черепом священные площади Иерусалима! — продолжал кипятиться Дар. — Что он, заодно с тем желторотым кагебешником, который вчера оскорблял меня?
— А что, вас вызывали?
— Да, и уже не раз…
— Из-за отъезда?
— И из-за отъезда тоже. Но главным образом по поводу какого-то подпольного журнала, которого я в глаза не видел! — восклицал старик-конспиратор, закатывая глаза к потолку, а руками показывая на лежащие на его столе машинописные пачки. То были, конечно, последние выпуски запрещенного журнала “Евреи в СССР”.
Я начал жадно листать страницы самиздата, за которым как-то особенно свирепо гонялась охранка. Находящийся тут застенчивый и ироничный Сеня Рогинский, с которым меня уже знакомила Наталья Горбаневская, имел явное отношение к этим выпускам. Нервный, весь на винте поэт Миша Генделев — тоже, вот я как раз наткнулся на его поэму “Менора”, напечатанную там с фигурной симметрией. А о спокойно-веселой Эмме Сотниковой и говорить не приходилось: ее имя и домашний адрес были с дерзким вызовом напечатаны прямо в журнале!
Читать дальше