Сошлюсь в этой связи на Макса Бирбома, который удивлялся тому «как мало людей осмеливаются иметь свое мнение… Я не понимаю, при чем тут «смелость». Я не понимаю, почему человек должен колебаться, прежде чем сказать, что он думает и чувствует. Ему нечего опасаться в наши дни. Никто ведь не предложит соорудить костер, чтобы на нем сжечь его… Отнюдь не впадая в раздражение, люди уважают вас за вашу «смелость». У вас появится дешевая слава благодаря качеству, на которое, нравится вам или нет, вы не вправе претендовать. Подобно тому, как солдата в бою не называют героем за бросок на дула орудий, если он знает, что они не заряжены». (Цит. по кн.: David Cecil. Max. New York, 1985. — P. 172–173.)
Гарри Шукман из Оксфордского университета, один из участников конференции, так описывал ее в 1996 году: «Большинство из нас сидели в безмолвном шоке, когда Пайпс представил Ленина и его «достижения» как показательную модель для гитлеровского режима… Почему мы были шокированы тогда и почему большинство из нас сейчас разделяют взгляды Пайпса, — это, на мой взгляд, результат развала Советского Союза». (Times Higher Education Supplement. 22 November 1996. — P. 22.)
Эти слова были бессознательным эхом того, что сказала Екатерина II Дидро двумя столетиями раньше: «Месье Дидро, я слушала с огромным удовольствием все, что ваш незаурядный ум вдохновил вас сказать… В ваших планах реформ вы забываете о разнице между вашим и моим положением: вы пишете на бумаге, которая все стерпит; она гладкая, простая и не представляет препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу, а я, бедная императрица, имею дело с человеческой кожей, которая намного более раздражима и ранима». (Maurice Tourneux. Diderot et Catherine. — Paris, 1899. — P. 81.)
Позже я узнал от одного из участников, что на учредительном собрании членов фонда в Москве к всеобщему удивлению Сахаров предложил мою кандидатуру в совет директоров. Излишне говорить, что это предложение отвергли.
«Нью — Йорк тайме» не печатала статью целый месяц. Когда наконец они согласились напечатать ее, я вступил в спор с редактором, которому не нравилась моя точка зрения. Я настаивал на своем, и статья вышла в том виде, как я ее написал. Но он отомстил мне за это, снабдив статью вводящим в полное заблуждение заголовком «Удар Советской Армии? Маловероятно». (New York Times. 20 November 1990. — P. A21.)
Следующее ниже описание основано на воспоминаниях председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, как они были записаны в интервью варшавской ежедневной газете «Речь по- сполита» (Приложение «+плюс — минус»). 30–31 мая 1998. — С. 13, 19.
Шушкевич отвергает как «полную ложь» циркулирующую на Западе историю, что во время принятия этого решения Ельцин был настолько пьян, что свалился со стула. Он настаивает, что все участники этих исторических заседаний были совершенно трезвыми.
Такая же некомпетентность, усугубленная не менее злобным отношением к несогласным с общепринятым мнением, бытовала и среди китаеведов. См.: Richard Walker. National Interest. 1998, № 53. — P. 94–101.
Позже я прочитал у Достоевского в опубликованном столетием раньше «Дневнике писателя» описание поведения типичного царского чиновника низшего ранга, которое соответствует тому, что мне пришлось наблюдать, и показывает, что корни такого поведения нужно искать в докоммунистической России: «Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле»: публика толпится, составился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились, наконец, вашей очереди, вы стоите, вы говорите — он вас не слушает, он не глядит на вас, он обернул голову и разговаривает с сзади стоящим чиновником, он взял бумагу и с чем — то справляется, хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать и — вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы, и присутствие закрывается — убирайся публика!» (Полное собрание сочинений. — Ленинград, 1981, том 23. — С. 75.) Достоевский объясняет такое поведение стремлением мелкого чиновника компенсировать свое ничтожество.
Читать дальше
![Ричард Пайпс Я жил [Мемуары непримкнувшего] обложка книги](/books/402431/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego-cover.webp)
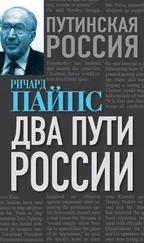








![Ричард Пайпс - Русский консерватизм и его критики. [Исследование политической культуры]](/books/401296/richard-pajps-russkij-konservatizm-i-ego-kritiki-thumb.webp)
