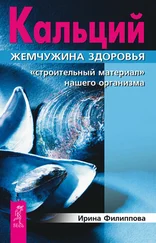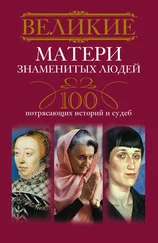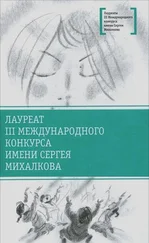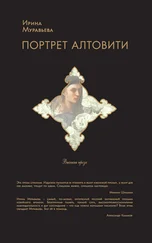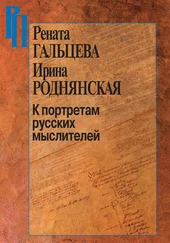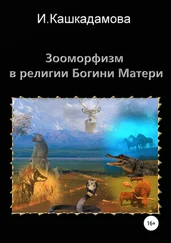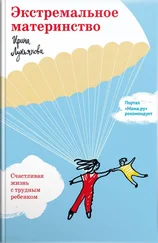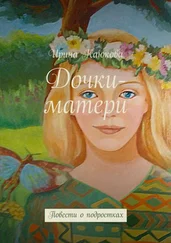В папке нахожу еще анкету на мамино имя по учету партизанских кадров. Она заполнена незнакомой рукой вскоре после освобождения Минска, в сорок четвертом. Назван точный день начала подпольной работы — 1 июля 1941 года. Значит, с этого времени она уже была связана с городским комитетом.
Несколько раз перечитываю коротенькую строчку: ранения и контузии — нет.
Тогда еще ничего не было известно.
Самый последний документ хранится не в архиве — у меня.
Потершийся, втрое сложенный листок бумаги. Его передал папе под Гомелем незнакомый человек. Он прилетел самолетом из партизанских лесов на Большую землю вскоре после вступления наших в Белоруссию.
Это не письмо в обычном смысле. Нет никакого обращения, нет адреса, потому что написано не кому-то одному, а всем, кто прочтет. Как листовка, переброшенная с войны людям по другую линию фронта.
Всего пять предложений:
«Ирина Федоровна Клишина, 9 лет. Находилась к началу войны с детским садом на даче в Степянке. Клишин Федор Иванович — работал инструктором сельхозотдела ЦК КП(б)Б. Накануне войны (20 июня 1941 года) уехал в командировку в Белосток.
Ищет Малакович Марина Федосовна».
Это написано в сорок третьем, посреди бытия, в котором лишними и опасными стали многие чувства и сама нормальная человеческая жизнь, казалось, была отменена до полной Победы. Но в узких, тонких буквах, В; каждой фразе, обращенной ко всем, я читаю уже столько лет ее тревогу и любовь, принадлежащие нам. Они; высказаны без конверта и адреса, открытым текстом. Так радист высказывает всем, кто может слышать, своё «SOS».
Мы нашлись. Куда теперь нам отправить свое послание, чтобы быть услышанными? Никто так и не сказал^ что видел, что знает ее конец. Может, это ее воля, еб| последняя власть — оставить нам навсегда чуть заметный огонек, надежду...
ЖИВЫЕ
Недавно сын подошел к столу, когда я работала. Подождал, пока подниму глаза, и серьезно сообщил:
— А войны-то было не нужно. Это фашисты зря при думали.
Откуда у него мысли о войне в четыре года? Малыш, мы не говорим с ним о таком. Телевизора дом пока нет. К последним известиям он вряд ли прислушивается.
Вечером, когда он уснул, мы, взрослые, собрались на кухне, и свекровь вспомнила:
— Тут по радио про Вьетнам говорили и что-то о американских бомбежках, о детях. А он был в другой комнате, играл там. Смотрю, идет — бледненький, глаза огромные. Выключаю скорей приемник. Обхватил он меня: «Я ведь не погибну, баба? Меня увезут на машине?» А я, что и сказать, не знаю. То ли сказку, то ли правду. Рано бы такому сердчишку вздрагивать...
Мне кажется, что это было вчера. Но день оказался длинным — прошло несколько лет.
Сегодня ночью сын беспокойно ворочался во сне. Когда я подошла поправить одеяло, он, не открывая глаз, с мученьем повторил несколько раз какое-то слово. Мне послышалось:
— Чили...
Уже месяц живем с этим горем. Потрясение первых минут и дней не проходит. Новое сообщение: арестован Корвалан.
Прямо на лестнице у почтового ящика мой шестиклассник разворачивает газету и бегом — сказать нам, что там. Завел папку и складывает в нее все сообщения о Чили. Особенно замечает каждое слово, которое поддерживает надежду.
Надежд все меньше.
Неужели это Испания повторяется, теперь уже для наших детей? Невозможно смириться, невозможно. Но что от моих слез? Если бы я могла найти такое слово и прокричать его, чтобы убийцы выронили оружие... Убили сотни, тысячи прекрасных людей. Мир стал беднее без них. А жизнь не останавливается, идет дальше, и мне снова, как в детстве, трудно, невозможно поверить, что доброе может пасть от рук не знающего удержу зла.
В воскресный день зашла на, выставку осенних цветов в Ботаническом саду. На низких столиках расставлены букеты. Гладиолусы, золотые шары, астры. На специальной подставке композиция из кедровой ветки и пунцовой розы. Посетителей просят придумать название.
Молодой, с пухлыми румяными щеками человек громко провозглашает, довольный своей сообразительностью:
—Предлагаю назвать «Сальвадор Альенде»! Звучит?
Его спутница, пудрясь на ходу, отозвалась: — А что, это сейчас модно.
Значит, можно и так?! С надеждой вглядываюсь в лица людей, когда по телевидению идут митинги, а они; идут теперь каждый день. В обеденный перерыв немолодые женщины в рабочих халатах, знакомо пригорюнившись, терпеливо слушают не очень-то умелые речи из трибуны. И слышат свое, незабытое, военное, по глазам-суровым видно. Нет, для них — не «модно»!
Читать дальше