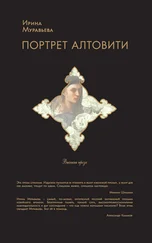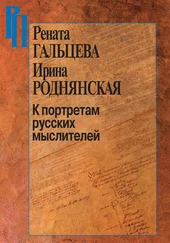Каждое воспоминание помещается в одной-двух фразах и ощутимо наполненной паузе. Все слушают. Белокурая жена с кофейным подносиком. Невозмутимая дочь в оранжевом свитере. Сдержанный Клаус из газеты. Каждому из них и слова и паузы говорят, наверное, свое.
Мне видно, как рассказчик сужает круг, приближаясь к самому важному сейчас для нас обоих. К его уходу от «своих» к «нашим».
Но, приближаясь, он идет все медленнее. Паузы в его рассказе все длинней. Мне кажется, он вот-вот остановится.
Еще нет. Он встает и несколько раз повторяет одни и те же слова:
—Вы ошиблись, считая меня военным. Я был инженером по телефонной связи. У вас неточные сведения.
Теперь все. Карл знает, о чем я сейчас думаю. Внесена необходимая поправка. В той истории не было бездумного служаки в высокой фуражке. Был обычный человек со своими собственными взглядами на войну, со здравым смыслом и совестью. Очень много сказал он этим настойчивым: «Я не был военным»,
Он не станет объяснять в подробностях, как было де ло. Некоторые события на войне имеют свои, не подлежащие оглашению, стороны. Даже и через 26 лет.
—Скажите, прошу вас, вы помните женщину в том гарнизонном поселке? Ее звали Марина.
—Я не должен был знать имена.
Снова остановка. Самая мучительная. И быстрый, как внезапное решение, второй ответ:
—Я виделся с вашей мамой три раза. Встречи были короткие. Нельзя было говорить много. Первый раз нас, познакомили. Второй раз передо мной была поставлен на боевая задача. Потом — уход, она провожала нас до безопасного места.
Сколько нужно времени, чтобы сказать несколько слов? Минута. Она застыла, и неподвижное пространство вокруг меня было только дверью, чуть-чуть приоткрывшейся, чтобы я смогла увидеть совсем немногое из навсегда скрытого.
—Очень точный человек. Ни одного лишнего слова. Полная определенность: задача, условия, сроки. Ни малейшей неясности. Больше всего запомнилось это — четкость.
Минута кончилась. Дверь закрылась. Время побежало стремительно дальше. Кофе, адрес, сувениры. «Хорошо бы встретиться еще». «Приезжайте в Москву».
Прощание, снова редакция, последние визиты. А над всем этим несколько скупых слов, которых мне хватит чтобы расшифровывать всю жизнь:
«Она была точной. Определенной».
Пришла в назначенное время и место?.. Не только, не только. Хотя, если вдуматься даже в это... Встреча происходила в поселке, десятки глаз скрещивались н прохожем: куда идет человек, к кому, зачем?
Точность подстерегаемого.
Четкость на острие.
Определенность смертельного выбора. Для того, кому еще только предстояло решиться кто был в мучительной власти сомнений о будущем, колебаний между «должен» и «могу», нужнее всего было именно впечатление человеческой цельности.
Берлин обошелся без чуда. Но он добавил к портрету матери черту, которую можно не увидеть с близкого расстояния.
ЧЬИ МЫ
Как бы я стала узнавать маму, проживи я с ней рядом двадцать, тридцать, пятьдесят лет (бывает ведь и такое счастье)? Ее лицо стало бы для меня привычней собственного и, смотрясь в него каждый день, не надо было бы мучиться мыслью, что мало знаешь родного человека.
Наверно, маму узнают в ее любви: хватит на всю жизнь — узнают всю жизнь.
— «Какой она была?» —с усилием спрашиваю в конце разговора у всех, кто ее помнит. И сама чувствую противоестественность положения. Люди от моего вопроса не то чтобы смущаются, а какое-то мгновение стараются примириться с необходимостью объяснять дочери про родную мать.
— А вот такая была, слушайте. Я, семнадцатилетний отчаянный мальчишка, прибежал к ней: «Марина Федосовна, винтовки в поле! Лежат там около большого стога, видно, наш обоз остался. Как бы фрицам не попали...» Она, ни слова не говоря, накидывает платок, подпоясывается по-крестьянски веревкой, запрягает в сани партизанскую лошадь. Среди белого дня — скорей в это поле. А немцы же кругом. Сын малый один в хате плачет. И снег в поле глубокий, выше пояса... Но оружия партизанам так не хватало, все связные шли с одним: «Винтовок, патронов!»
— На вид я бы дала ей лет 26—28. Мы встретились в самые первые дни оккупации, посреди всеобщего развала и неразберихи. В дом, куда я кое-как пристроилась со своими двумя дочками прислугой, Марину взяли на несколько дней, чтобы обшить дочь хозяйки. Здесь готовились во всем блеске встретить «новую власть». Вечером я сидела на крылечке и думала о своем. Был необыкновенный закат. В той стороне, где, Минск, все небо от края и до края залило красным как будто город все еще горел. Сзади послышались шаги. Марина тоже смотрела на вечернее солнце, и н лице у нее была такая мука! Мы встретились в самые первые дни оккупации, посреди всеобщего развала и неразберихи, что еще две недели назад была врачом. «А учила студентов». Мы обнялись, заплакали и больше н чего не говорили. Общая беда сблизила нас сразу, один вечер. Потом мы часто встречались по делам, которые нас крепко связали, но до самого ареста я помню ее всегда такой — до предела, до неостороженности искренней.
Читать дальше