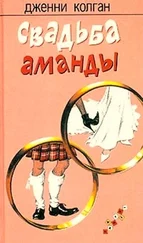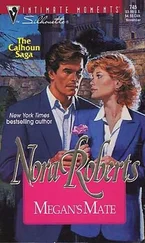Я перестала его слушать. Это была новая мания.
Это помешательство длилось у него гораздо дольше, чем обычно. Он прожужжал мне все уши своей двойной спиралью, о существовании которой он догадывался. Наконец-то будет доказано то, о чем он давно говорил: память каждого отдельного человека является в то же время памятью всего человечества. Он посвятил этому свою пророческую картину «Постоянство памяти» (1931).
— Представьте себе, моя маленькая Аманда, что с самого рождения в ваших хромосомах сосредоточена память вашего отца и деда и так далее, и тому подобное… Память всего мира! Мы могли бы вспомнить, что происходило миллионы лет назад. Все содержится в наших крошечных хромосомах.
И он помахал в воздухе экземпляром своего любимого «Американского научного журнала».
— Тут пишут про удивительные открытия. Я вам дам его почитать.
Однако революция, которая готовилась на улицах Парижа, его ничуть не волновала. Его голова была забита совсем другими вещами.
Банье много рассказывал о виконте де Ноай, одном из первых меценатов мэтра, что побудило Дали вновь увидеться с Мари-Лорой де Ноай. Он устроил для нее ужин в «Максиме», куда она пришла в тапочках и с пластиковым пакетом, а потом в течение всего ужина отпускала колкости.
Дали рассказал мне, захлебываясь от смеха, что госпожа де Ноай явилась на бал к Бестеги, в Венеции, в костюме льва святого Марка. Ее туловище было заключено в мусорный ящик, который по-видимому должен был изображать колонну. Дело окончилось тем, что в маскарадной сутолоке виконтесса так и не успела вылезти из ящика. Дали часто вспоминал про эти роскошные праздники, последние светские развлечения блестящего общества, впоследствии не устраивавшего ничего подобного. Он вспоминал об Эльзе Максвелл, отвратительной сплетнице, об Артуро Лопезе и его щедрости.
Я же вернулась в Сен-Жермен-де-Пре, где студенты уже начали бастовать.
Однажды вечером мэтр взялся отвезти меня домой. Банда бастующих окружила его «Кадиллак», стала трясти машину, барабанить в стекла, выкрикивать лозунги и оскорблять шофера. Дали открыл дверцу, поднял трость и закричал нападающим: «Да здравствует Испания!»; «Пусть искусство правит миром!». Очарованные студенты тотчас узнали Дали и зааплодировали. «Он просто супер, этот тип!»; «Привет, Маэстро!»
Машина проехала беспрепятственно. Однако Гала запретила Дали подобные выходки, и он больше меня не провожал.
В другой вечер мы отправились ужинать на остров Сите в «Анисетьер дю Руа», ресторанкофейню, который Дали любил за его средневековый интерьер. Он пригласил Дадо Рюсполи, Сержа Гинзбура, Джейн Биркин, близнецов и еще нескольких своих друзей. У меня был новый наряд: черный облегающий гольф, высокие гетры и кожаный пояс. В этом наряде я немного напоминала квартирную воровку, но Дали нравилась черная блестящая поверхность лайкры, из которой был сшит гольф, потому что лайкра облегала мое тело, как вторая кожа. За едой он несколько раз говорил «Я тоже — нет». Он часто употреблял эту фразу, означавшую для него «я тоже» и при отрицании, и при утверждении. Например, на вопрос: «Вы любите джаз?» — он отвечал: «Я тоже не люблю» (что значило: «нет, я не люблю»). Или: «Мне кажется, что хорошо бы поужинать в этом ресторане» — «Мне тоже так не кажется» (что значило: «мне тоже так кажется»). Несколько лет спустя Гинзбур употребил это выражение в песне «Je t'aime — Moi non plus» («Я тебя люблю — Я тебя тоже нет») и Дали не преминул заметить, что ему подражают без конца и во всем. Это он придумал название «Здравствуй, грусть!» для книги Франсуазы Саган, это он со своими размякшими часами способствовал появлению «литья» Сезара и мягких предметов Ольденбурга, не говоря уже о ежедневном «Добрый день!» Ива Муруси, ведущего «Новостей» на французском телевидении.
— Шанель всегда говорила, что идеи существуют для того, чтобы их заимствовать, — вспомнил он. — Я же перепродаю идеи. Я предпочитаю, чтобы у меня их крали, это меня избавляет от необходимости самому претворять их в жизнь!
Галы не было с нами, потому что она считала Гинзбура слишком уродливым. Дали использовал ее отсутствие для того, чтобы поговорить с Гинзбуром об эротике. Он опять вернулся к своим старым идеям фикс: важности анального секса, смешении полов; он говорил об ангелах, не имеющих пола, и о своем ужасе перед женской грудью, о своей инфантильной боязни вагины и о венерических заболеваниях. Дадо поддерживал Дали, громко смеялся, Джейн давилась от смеха, прижавшись к плечу Гинзбура, а последний без конца повторял: «Это гениально!». Я же думала о своем. Зачем все время говорить о сексе? Почему бы просто не делать то, что хочется, а не постоянно говорить об этом? Правда, Дали и не занимался сексом. Он говорил мне, что иногда, когда Гала возвращалась из своих поездок, он был так сильно влюблен в нее, что «строчил с ней на машинке», но это был скорее чисто символический акт, чем реальный.
Читать дальше