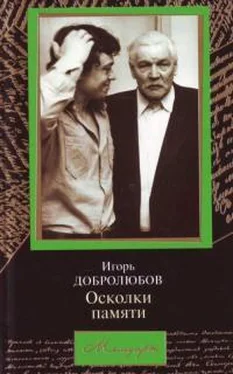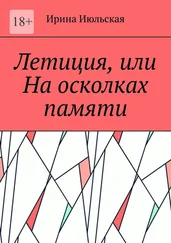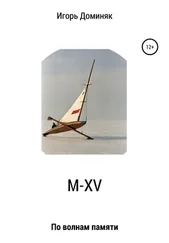Помню, пианино стояло открытым, когда пришла почтальонша. Из всех квартир сразу высыпали люди. Она протянула маме конвертик (в моей памяти он запечатлелся почему-то, как сложенный треугольник). Мама открыла его при мне - а там напечатанные слова, и от руки что-то дописано. Мама вскрикнула и рухнула на клавиши пианино.
Вот с таким звуком пришло известие о смерти папы. Этот звук врезался в мою память навсегда.
С тех пор я к инструменту не подходил и к клавишам ни разу в жизни не притронулся.
Мое первое прикосновение к искусству
Из военного времени особняком стоят воспоминания о моем первом прикосновении к искусству. Это было совершенно фантастично. Наша школа располагалась неподалеку от знаменитого Новосибирского театра оперы и балета - самого большого театра в Сибири. Однажды в класс пришел дяденька и сказал, что для хора цыганят в опере "Кармен" нужны мальчишки. Указал пальцем: ты, ты, ты. Отобрал пацанят приблизительно одного роста, из соседнего класса взял ростом побольше - чтобы разнообразная была публика, и повел нас в оперный театр.
Пришли. Фойе огромное, окна огромные! Сжалось все внутри от испуга, сердце делало немыслимое количество ударов. А этот дяденька (почему-то я запомнил, что его пиджак на локтях сильно лоснился) стал вызывать нас по одному к инструменту, нажимал клавишу и заставлял пропеть ноту. Сидя в конце зала, я с ужасом ждал момента своего позора...
Но все закончилось благополучно, потому что появился еще один большой дяденька, очевидно, главный, который сказал: "Чего ты тут дурью маешься? Чего ты их мучаешь? Оденем пацанов в костюмы, загримируем, они пробегут туда-сюда, а за них очень аккуратненько споет женский хор. Так что, ребята, приходите все". Тот согласился. Действительно, чтобы заполнить ту сцену, много надо было народу.
Пару раз вызывали нас на репетиции: давали команду "Бежать!", и мы носились туда-сюда изо всех сил.
Наступил день премьеры. Завели всех в костюмерную, обрядили нас в какие-то лохмотья и быстро загримировали, причем мазали, как хотели - мы только подставляли свои физиономии. Потом тот главный дяденька сказал: "Сойдет".
Мы стояли за кулисами, ожидая своего выхода (цыганята должны были бегать в начале).
Заиграла музыка - жуть, страх! Раздалось шипящее: "Побежали!", и мы рванули через всю сцену. Постояли - назад побежали.
Как во сне все происходило, от волнения сознание было смутное, помню только, что мальчишки очень дисциплинированно выполняли все режиссерские указания.
"Переодевайтесь, а потом будем разгримировываться", - поступила команда. А я быстренько переоделся - и домой. Решил продемонстировать маме загримированную физиономию - чудо какое - был в искусстве! Мама сказала: "Ах!", и давай смывать с меня грим мылом. А он трудно отмывается. Грим вообще, а театральный особенно, въедливый, его надо вазелином снимать.
Чайника три пошло на смывание грехов соприкосновения с искусством, и на этом все кончилось - оно меня больше не привлекало: слишком сильны были "послегримные" впечатления, да и сама затея была неинтересная - бегать туда-сюда.
Кузьма Львович
Но все же к искусству я приобщился, и решающую роль в этом сыграл Кузьма Львович Рутштейн.
Во время войны мама на своем предприятии занималась культмассовой работой и познакомилась с женщиной, которая распространяла в Новосибирске билеты на спектакли находившегося там в эвакуации минского ГосЕТа (Государственного еврейского театра). Каким образом театр, чьи спектакли шли на еврейском языке, собирал публику, я не понимаю, но как бы то ни было, именно благодаря общественной работе мама познакомилась с Кузьмой Львовичем.
В репертуаре ГосЕТа был неизменно пользующийся успехом спектакль о сиротке Хасе и коварном соблазнителе. За Кузьмой Львовичем, подходившим по фактуре для этой роли, еще до войны закрепилось амплуа героя-любовника. Незадолго до ее начала великий Бабочкин пригласил Кузьму Львовича, которого хорошо знал по картинам, где они вместе снимались, в Ленинград, на одну из главных ролей в спектакле Большого драматического театра. Этот спектакль ставил сам Бабочкин.
Кузьма Львович приехал - а тут война. Пришлось "задержаться", пока не открылась "дорога жизни". Как только стало возможно, он вернулся в свой театр, эвакуированный в Новосибирск. Здесь Кузьма Львович, чья семья погибла в минском гетто, и познакомился с моей мамой. Он пришел к нам в дом. Жили мы славно: спокойно, мирно.
Читать дальше