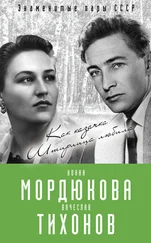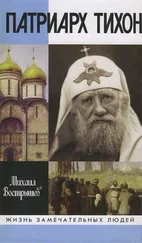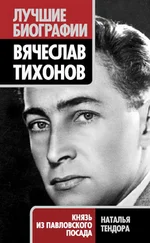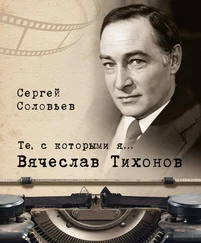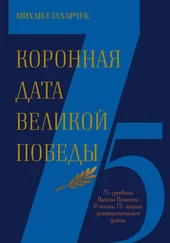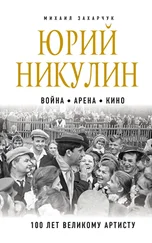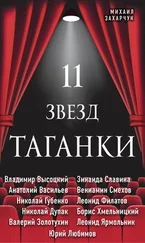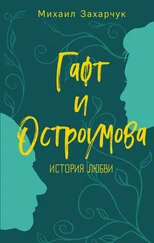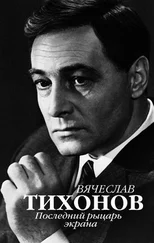Бедных офицеров все-таки расстреливают, и вот тут-то все уже окончательно понимают, что Вожак — плохой. Кровавый монстр какой-то и самодур. И комиссарша зачитывает перед всеми приказ (а на самом деле белый лист, на котором ничего не написано; как этого не видят стоящие рядом матросы — тоже неясно) о расстреле Вожака. Его с удовольствием расстреливают, а далее вся обозначившаяся сложность исчезает: когда зло преодолено, говорить становится не о чем.
Поэтому нас развлекут мелкобандитским анархическим отрядом, зачем-то (зачем?) прибывшим на помощь Вожаку — впрочем, какую помощь? Да и как они собираются «оказывать помощь», они на ногах еле стоят! И цель-то у них одна: «Была бы водка, за водкой глотка, все остальное трын-трава», — о чем они и весело распевают. Впрочем, и их комиссарша мгновенно и незамедлительно переагитирует (м-да, те еще борцы за советскую власть!), и далее уже идет чистый пафос священной борьбы.
Ну и чтобы все грамотно драматургически завершить, нам показывают гибель комиссарши. Священная жертва на алтарь мифа принесена. Более того — героиня не просто погибла, а замучена, как Мальчиш-Кибальчиш: она не выдала врагам военную тайну (какую, не совсем ясно, но это и не важно). Торжественный финал.
Однако вот в чем дело. Именно здесь, в изначально схематической конструкции пьесы, где поначалу нас настраивают на притчу, а потом аккуратно выводят в плакат, все это абсолютно органично. И когда пьесу Вишневского ставили чисто реалистически, вышеназванные драматургические швы действительно раздражали. В фильме же они незаметны, так как он весь полуусловен.
Полуусловность — истинно органическая среда для Самсонова, ведь это главное свойство театра. Самсонов не случайно создает один из лучших своих фильмов: он в своей стихии, он предельно легко, почти шутя-играючи, скрещивает театр и кинематограф.
Здесь есть и «хор» из ведущих-матросов, и некоторая условность персонажей, превращающая их в подобие масок, и лицедей, самодостаточный в своем лицедействе. Человек, играющий здесь, — это матрос Алексей в исполнении Вячеслава Тихонова: мировоззрение его не сформировано, не определено, а «актерский» способ существования в жизни самодостаточен. Алексей предельно легко меняет и взгляды свои на мир, и позиции, но при этом всегда остается в маске шута, и эта маска позволяет ему отстранять свое видение мира, а значит, и высказывать по-настоящему интересные и даже глубокие мысли, и совершенно очевидно, что ничем этот способ существования «не задушишь, не убьешь».
Словом, все находится в предельно органичном для Самсонова раскладе, для режиссера идеально ложатся карты. И у него все получается: затаенная мощь фильма прорывается бешеной энергией. Актерам нашлось где разгуляться, да и остальным участникам съемочной группы тоже (даже посредственный композитор Дехтерев и тот ухитрился написать замечательную и разнообразную музыку). Перед нами праздник творчества на заданную тему, участники которого устроили карнавал на арене. И не было прежде у Самсонова фильма, который бы настолько захватывал.
Но самое главное не это. Впервые в советском кино — пусть почти случайно, почти поневоле — миф революции был отстранен. Мы смотрим на происходящее слегка со стороны, немного сверху, мы над ним. А значит, мы его осмысляем. Миф больше всего боится этого. Ему нужна слепая вера, слепое подчинение — усомнившийся да будет наказан, низвергнут.
Именно «Оптимистическая трагедия» откроет клапан для переосмысления мифа. И далее уже появятся и «В огне брода нет», и «Служили два товарища», и «Неуловимые мстители», и «Белое солнце пустыни», и «Бумбараш», где на экране уже будет царить ирония — более тайная в реалистических фильмах и более явная в жанровых.
Ирония принесет за собой парадокс. А он откроет пространство неоднозначности, которая и убивает соцреализм. Разрушает миф.
Ирония сделала свое дело. Осталось поверить миф великой революции драмой, трагедией, подлинным сложным реализмом.
Но этого не произошло до сих пор».
Житель украинского города Приднепровска Николай Тертышник вспоминает:
«В 1962 году меня забрали на военную переподготовку. А потом поступил приказ: из пехотинцев срочно будем переквалифицироваться в моряков и сниматься в кино! Для съемок отобрали пятьдесят молодых ребят. Мы, конечно, были очень удивлены этим и гордились внезапной возможностью прикоснуться к миру искусства. Съемки продолжались полтора месяца. Все это время жили мы в лесу в палатках на шесть-семь человек, только на выходных разрешали уехать и повидаться с родными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Захарчук Вячеслав Тихонов [Тот, который остался!] обложка книги](/books/397109/mihail-zaharchuk-vyacheslav-tihonov-tot-kotoryj-ost-cover.webp)