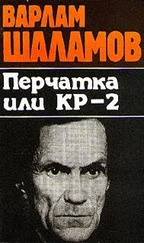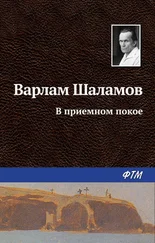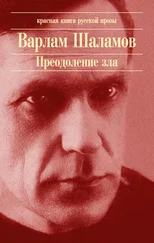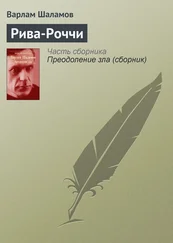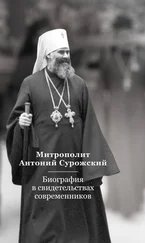И вот я отправилась туда, совершенно не предполагая, что меня там ждет. То, что я увидела, могло бы стать последним очерком из «Колымских рассказов», потому что по впечатлению, верней, по ужасу это было примерно то же самое. Дом для престарелых находился в огромном железобетонном здании. Входишь на первый этаж – все замечательно: чистенько, фикусы стоят, стенгазеты какие-то, старушки опрятные ходят, телевизор, а дальше начинаются круги ада, и чем выше я поднималась, тем острее и концентрированнее становился запах мочи, грязи, гниения. Я почувствовала, что задыхаюсь. На последнем этаже находились лежачие, те, на ком администрация поставила крест. Я вошла в огромный широченный коридор, по грязному линолеуму в прямом смысле ползали какие-то совершенно беспомощные люди. Это была страшная картина. Я даже не предполагала, что такое вообще может быть в современной Москве. Никого из медперсонала видно не было, но от Леши Романкова я знала, в какой палате находится Шаламов.
Захожу: на одной кровати сидит человек, совершенно ободранный, а на другой, на которой вообще никакого постельного белья не было, только голый матрац, спит огромный, худой, изможденный человек, с очень длинными руками и ногами. То, что на нем было надето, даже назвать пижамой нельзя было – тряпки какие-то изорванные. К тому времени я уже видела фотографию Варлама Тихоновича и поняла, что это он.
Когда я вошла, он, видимо, что-то почувствовал. У слепых и глухих развиваются другие органы чувств. Он проснулся, рывком сел, причем конечности его двигались резко, беспорядочно, так что я сразу догадалась, что у него болезнь Меньера, то есть нарушение координации движений. Болезнь нелеченная, в последней степени: страшные, внезапные движения руками и ногами, жуткие гримасы на лице. Наблюдать за ним было тяжело. Как только он сел, сразу же начал кричать: «Але, але, какой день, какое число, который час?», причем страшно громко. Все было таким странным, сюрреалистическим... Было поразительно, что этот полутруп так интересуется временем. Но Шаламов действительно следил за временем, через несколько моих посещений он прокричал мне, что на будущий год ему исполнится семьдесят пять лет. До юбилея он не дожил.
Я ухаживала за ним весь последний год его жизни. Его обычная реакция на новых людей была негативной. Он замыкался, молчал, не отвечал на вопросы. Но и без этого мне стало ясно, что Варлама Тихоновича надо одевать, мыть, кормить. Запах на всем этаже стоял просто чудовищный. В то первое посещение, помню, я вышла из палаты, разыскала нянечку. Она мне тут же все объяснила по-своему: «А кто ж их тут мыть-то будет?». Нянечка была одна на целый этаж лежачих больных и по сути дела ничем не могла им помочь. Я спросила: «Почему у Варлама Тихоновича нет постельного белья?» Она ответила: «Да он сам его срывает». При его судорогах белье сбивалось под ним жгутами и впивалось в худое дистрофичное тело. Видимо, это было болезненно. Тогда он срывал белье и даже рвал на куски. На спинке его кровати висело несколько таких лоскутков, а на шее было повязано полотенце. Впоследствии я догадалась, что Варлам Тихонович держал полотенце на шее, чтобы его не украли.
Там крали все – начиная с администрации, медперсонала и работников кухни до тех больных, кто еще мог хоть как-то двигаться. И этих больных, конечно же, нельзя осуждать. Их ведь не кормили. У них не было ни родственников, ни знакомых, которые могли бы их защитить. Порядки в доме для престарелых были совершенно лагерные. Люди просто вынуждены были бороться за свою жизнь. В одной из статей о Шаламове, которую я прочла на интернете, сказано, что последние годы своей жизни он провел «в пансионате для инвалидов и престарелых Литфонда в Тушине». Не знаю, может быть тот дом для престарелых, где последние годы своей жизни провел Шаламов, и имел какое-то отношение к Литфонду, может быть там было какое-то количество мест выделено для Литфонда, но уж пансионатом его никак нельзя было назвать. И для меня эта фраза звучит как кагэбэшная фальшивка для иностранцев.
Поначалу Варлам Тихонович не хотел со мной разговаривать, но я и так догадалась, что его не кормят. Впоследствии выяснилось, что даже в истории болезни у него было записано – «дистрофия». Его не кормили, он – не просил. Но когда он поверил в то, что я хочу ему помочь, то сразу сказал мне, что любит виноград и шоколад. В тех диких условиях, в которых он находился, эта фраза прозвучала чуть ли не иронично. Все, что я ему приносила, он съедал тут же. Никогда ничего не оставлял. Видеть это было страшно. Он знал, что пока я в палате, у него ничего не отнимут и не украдут.
Читать дальше