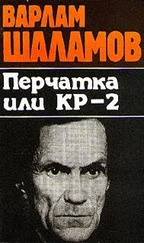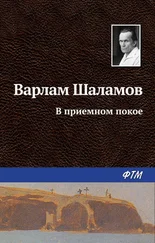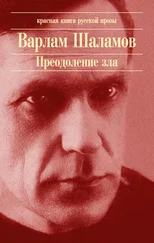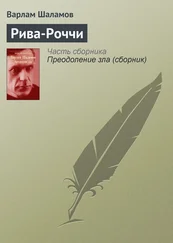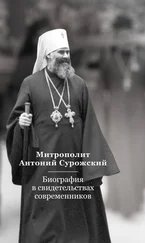Не помню, ещё при первой ли нашей встрече в редакции или в этот раз тут, но на очень ранней поре возник между нами спор о введенном мною слове «зэк»: В. Т. решительно возражал, потому что слово это в лагерях было совсем не частым, даже редко где, заключённые же почти всюду рабски повторяли административное «зе-ка» (для шутки варьируя его – «Заполярный Комсомолец» или «Захар Кузьмич»), в иных лагерях говорили «зык». Шаламов считал, что я не должен был вводить этого слова и оно ни в коем случае не привьётся. А я – уверен был, что так и влипнет (оно оборотливо, и склоняется, и имеет множественное число), что язык и история – ждут его, без него нельзя. И оказался прав. (В. Т. – нигде никогда этого слова не употребил.)
Тут я взял у В. Т. читать уже многое из его «Колымских рассказов» (в несколько потом приёмов возвращал и больше брал), тут же сговорил его сделать подборку стихов, которые сам передам Твардовскому. (Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу.) Первые месяцы после напечатания «Ивана Денисовича», даже год, пока я не начал усиленно собирать материалы для «Красного Колеса», я не знал на себе более высокого долга, чем лагеря и бывшие зэки.
Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого. В рассказах его не-лагерных чаще был какой-нибудь анекдотический случай, которыми одними литературу не напитаешь. А в лагерных – действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Предположить, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями, а лишь палочками, которые использует лагерь? Конечно, он писал о запредельных страданиях, запредельном отрешении от личности — и всё сведено к борьбе за выживание. Но, во-первых, не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом. А во-вторых, это прошло у Шаламова слишком сквозно, и я вижу тут изъян его пера. Да в «Надгробном слове» он как бы расшифровывает, что во всех героях всех рассказов – он сам2. А тогда и понятно, почему они все – на одну колодку. А переменные имена – только внешний приём сокрыть биографичность.
Другая беда его рассказов, что расплывается композиция их, включаются куски, которые, видимо, просто жалко упустить. Многие рассказы («Галстук», «Тётя Поля», «Тайга золотая» и другие) составлены как бы из калейдоскопических кусочков, нет цельности, а наволакивается, что помнит память, – хотя материал самый добротный и несомненный. Иногда из недоразвитой картины он перескальзывает в рассуждение, но и оно расплывается (как в «Красном кресте»). Однако во всех этих приметах я усматриваю не столько творческую программу Шаламова, сколько результат его изнеможения от многолетнего лагерного измота. В них тоже – черта подлинности.
Очень ценно было отдельное его «физиологическое» исследование о блатном мире.
Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его. (Как и ему самому.)
В новогодние дни 1963 года Шаламов приходил к нам в гости в неприютно-«роскошный» номер «Будапешта», что на Петровских линиях, мы ужинали в номере и живо обсуждали пьесы: мою «Олень и Шалашовку», которую он уже прочёл, – и его колымскую пьесу, не помню её названия, драматургии в ней было не больше, чем в моей, но живое лагерное красное мясо дрожало так же, пьеса его волновала меня.
До этой поры я ещё не взялся записывать наши встречи с Шаламовым. Первый раз записал встречу в мае 1963. Это – почти сплошь его отдельные литературные суждения. Не знаю, может быть, они уже опубликованы, изложены в системе, но во всяком случае приведу отрывочно, как у меня записано.
– Андрей Платонов – очень большой писатель, загублен Горьким, которому верил, а тот советовал чушь: «не печатайте».
– Горький – отец журнального «самотёка», он провозгласил, что талант – это только труд, трудом можно достичь всего, и обманул многих бесплодных кропателей. Но труд – это уже потребность таланта, а не отец таланта. (Верно!)
– Писатель должен быть немного «иностранцем» по отношению к описываемому материалу. Слишком много знать о материале не надо, слишком большой опыт не нужен писателю: он тогда становится непонятен своим читателям, чересчур глубоко уходит в материал, не знакомый им. (Последнюю опасность понимаю, но талант и вкус должны помочь от неё удержаться. А не знать материала достаточно хорошо – с этим не соглашусь: тогда и будет поверхностно. В. Т. говорил это, видимо, с горечью о себе: что он слишком вошёл в лагерный материал, так что читателям уже и не верится или слишком неуютно. А я примеряюсь – к истории революции: как же бы можно сметь писать её, зная недостаточно?)
Читать дальше