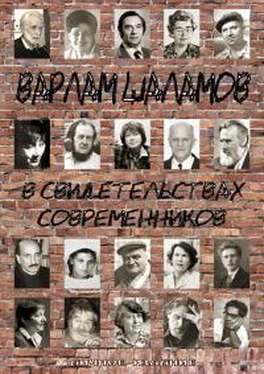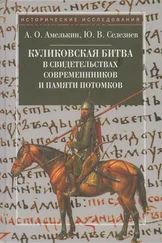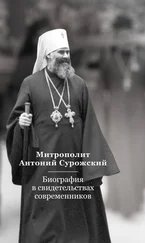Шаламов поднялся и вдруг заговорил, перестав заикаться и даже заносчиво:
– Но ведь и понятно! Разве им под силу такое печатать? Разве они могут такое показывать людям? И дело не просто в лагерной теме. Издавали и лагерную. Дело в сути. В том, что вся мировая и русская литература — это прежде всего беллетристика. Да. И Гёте, и Шекспир, и Толстой, и даже Достоевский. А беллетристика не что иное, как изящная словесность, то есть искусство для чтения. Чтобы проняло. Блестящие описания, хитрый вымысел, игра фантазии. Взлет ума и таланта, порой дерзновеннейшего. Но не более того. А здесь... – Шаламов указал на свою папку, – совсем другое... Это – единственный в своем роде феномен нелитературной литературы. И вообще – не литературы. Это судебный протокол. Сухой, до предела отцеженный перечень фактов, собранных для судебного разбирательства. Ничего подобного мировая литература не знала, да и не могла знать. Откуда им?.. Вот так... – Он передохнул, в груди его что-то заклокотало. – Только этот перечень фактов получился чересчур огромным. Однако, не моя вина. Он соответствует моему лагерному сроку. Меньше не получилось. Боже мой! – Шаламов закрыл лицо корявыми, искривленными пальцами. – Куда я с этим пойду? Куда мне теперь деваться?
Он подтянул к себе папку и, переломившись от ее тяжести, направился к выходу. Голова его тряслась, тесемки поношенной ушанки качались.
Больше в издательство «Советский писатель» Шаламов не приходил. Он тяжело заболел и перестал выходить из дому.
________
* Устроиться в больничку В. Шаламову помогла лагерный врач из вольнонаемных Нина Владимировна Савоева.
** Вера Давыдовна Острогорская.
Фрагмент из книги «Розовый дом. Вспоминая что было», издательство: Аграф, 2006 г. Сетевая версия в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир» http://ru-prichal-ada.livejournal.com/21946.html
Майя Ильинична Муравник (род. 1932), журналистка, редактор, издатель, мемуарист, жена искусствоведа и коллекционера Александра Глезера
_________________________
_____________
Сергей Неклюдов
Третья Москва
В 1956 году после реабилитации В. Т. Шаламов смог, наконец, перебраться в Москву. Его предшествующие проживания в этом городе – с двадцать третьего по двадцать девятый и с тридцать второго по тридцать седьмой, также разделенные тюрьмой и лагерем, – были непохожи одно на другое. Его первая, студенческая Москва (о ней он немного рассказал в «Четвертой Вологде») существенно отличалась от его второй Москвы – Москвы середины тридцатых, когда он начал (и довольно успешно) работать как журналист и писатель. Последнее возвращение состоялось почти через двадцать лет. Драматичной оказалась встреча с этой Москвой, уже третьей в жизни Варлама Тихоновича.
Как и в предыдущих случаях, он вернулся, чтобы начать жизнь сначала, но на сей раз – немолодым и больным человеком. Его очерки и рассказы, печатавшиеся в тридцатые годы, были забыты. Даже просто знакомых тех лет сохранилось мало, а в литературном мире его не помнил почти никто. Что касается его поэзии и прозы конца сороковых – начала пятидесятых – а это были стихи «Колымских тетрадей» и «Колымские рассказы» – то их, по условиям времени, знал лишь самый узкий круг друзей. Мастеру зрелому, уже воплотившему в слове свой долгий и страшный жизненный опыт, предстояло вступать в литературу одновременно с действительно молодыми поэтами, скажем, Ахмадулиной или Вознесенским, и общество оказалось к ним – своему будущему – куда более расположенным, чем к отставшим от времени мученикам, обитателям еще недавнего кровавого и постыдного прошлого.
Это касалось не только Варлама Тихоновича. В подобное же положение новичков попали и другие поэты, до середины пятидесятых годов писавшие «в стол», а в своей официальной жизни чаще всего занимавшиеся переводами. Среди них – такие значительные имена, как Семен Липкин, Арсений Тарковский, Мария Петровых. Их и после пятьдесят шестого года печатать не спешили, хотя, конечно, несколько расширился круг читателей, случались и публичные выступления.
Я хорошо запомнил один такой вечер в старом МГУ на Моховой, в коммунистической аудитории, проводившийся, по-моему, 1 декабря 1962 года. Был он, кажется, абонементный, в рамках цикла вечеров любителей поэзии, общества книголюбов или какого-то литобъединения. Вел его Б. А. Слуцкий, а выступали А. Тарковский, В. Шаламов, Е. Благинина и Н. Эскович. Народу было не особенно много, больше молодежь, слушали вежливо – некоторое время, а затем устали и начали просить, чтобы Елена Николаевна почитала свои детские стихи, и никто, вероятно, не понимал, насколько это жестоко. Она прочитала – «Журавушку». Потом появился какой-то молодой человек и начал декламировать нечто очень длинное про Мурку и МУР. Запахло скандалом, который, впрочем, не состоялся, но меж тем герои вечера были забыты. Они молча сидели на своих стульях лицом к залу, а Слуцкий отвечал – очень откровенно по тем временам – на многочисленные вопросы. По просьбе публики он прочел стихотворение «Бог», обличил как творчески несостоятельного живописца Герасимова, противопоставив ему подлинного художника – Оскара Рабина. И все мы, сидевшие в зале, понятия не имели, что в этот самый день совсем рядом – через улицу, на выставке в Манеже бродит все более распаляемый гневом Хрущев и что назавтра ударят очередные – и уже последние – заморозки в нашей первой оттепели.
Читать дальше