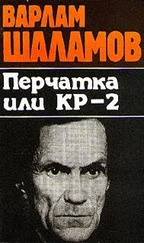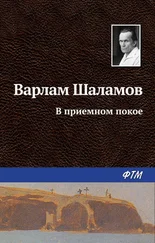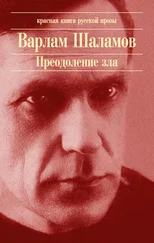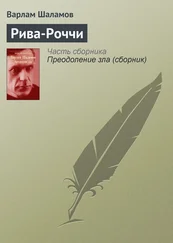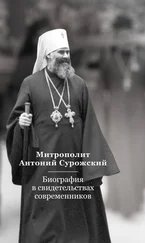– П-постоянно б-болит г-голова, – говорил Варлам Тихонович. – Уши т-тоже. На п-приисках б-бригадиры были хуже зверей. Б-били по г-голове. Я ведь ископаемое, вроде к-колымского мамонта. Д-двадцать лет отбухал. Обидно, что т-такой высокий и м-мосластый. Эти в лагере умирают раньше. 3-закон физиологии. П-просто им т-требуется б-больше пищи. Мелкого мужичонку с-согнет в д-душу, а он все шевелится да еще норму т-тянет.
В «Лиловом меде» не было никакой лагерной маяты – ни морозов под пятьдесят, ни окоченелых трупов с биркой на ноге, ни зэков, про которых Шаламов писал: «...отходы с грязными изломанными телами полуживых людей, переставших быть людьми». А были только цветы, лиловый вереск и хрустальное журчание ручьев в великолепном стихотворном пастернаковском ключе. Пастернака Варлам Тихонович боготворил.
Толпа гортензий и сирени
И сельских ландышей наряд –
Нигде ни капли смертной тени.
И вся земля – цветущий сад.
«Мед» – значит, должно быть сладко. Значит, и поэтика стройная, и мысли глубокие, и полная величия красота северной природы. Моя знакомая, близкий друг Шаламова, объяснила, что он специально такие стихи отобрал, хотя в столе у него, в синих тетрадках, масса лагерных стихов.
– Варламу Тихоновичу ни к чему это публиковать, – сказала она. – Главное он уже сделал.
Главное заключалось в том, что в соседней редакции прозы – соседняя дверь – уже три года ждала своей участи необъятная по объему, опыту, мудрости и страшному материалу рукопись «Колымских рассказов», которой подошло бы название «Колымская библия». Она бесконечно проворачивалась в редакции, получила десятки восторженных рецензий, положительных редзаключений и одобрение самого царя и бога советской литературы Константина Симонова: «Подобная книга совершенно неотвратимо должна увидеть свет. Это очевидно. Это бесспорно».
И Шаламов страстно верил, что эта книга, смысл всей его мучительной жизни, пробьется к читателю. Иначе к чему в лагерях, уже на смертном рубеже, на самом краю пропасти его всегда щадила Костлявая? Был случай, когда его приговорили к расстрелу. Негодяй-следователь состряпал дутое обвинение в принадлежности к какому-то «заговору юристов». И вдруг в последний момент разоблачили и расстреляли самого следователя. Или другое: Варлам Тихонович сдавал экзамены на фельдшера и провалился – не сумел ответить на все вопросы комиссии.
– Я в отчаянье п-пришел, – рассказывал он. – У меня д-дистрофия. В-верный к-конец. Я на все п-плюнул. Издыхать, так издыхать. И в-вдруг, ни с того ни с сего, меня утвердили.
Перейдя в лагерную больничку*, писатель уже не надрывался на общих работах и не так голодал. И даже мог писать. Он выкарабкался. Его спас Божий промысел.
Однако для «Колымских рассказов» срок, видать, еще не наступил. Директор Лесючевский все что-то тянул, выжидал и аккуратно каждый год выбрасывал шаламовскую книгу из плана. Когда в «Новом мире» опубликовали «Один день Ивана Денисовича», Лесюка чуть кондратий не хватил. Он ненавидел Хрущева и этого не скрывал:
– Там, наверху, дурак сидит. Он во всем виноват. Это он распустил всю эту шайку-лейку.
И Лесюк дождался. Как-то он срочно созвал общеиздательское совещание. Встал, ликующий, выбросив вперед перед работниками руки и, словно в полете, провозгласил:
– Вы, дорогие товарищи, знаете, что наступил решающий перелом в политике нашей партии и что дурака больше над нами нет!
Грянули аплодисменты.
– Я пригласил вас для того, чтобы объявить о полной перемене курса в отношении лагерной тематики. Партия осудила эти вредные тенденции прежнего руководства и нацелила нас на воспевание военно-патриотического воспитания молодежи. Правильно я говорю?
– Правильно, Николай Васильевич!
Через день Варлам Тихонович вошел в нашу комнату, пошатываясь и волоча в авоське толстенную папку, которую бухнул на середину стола.
– В-вот, – с трудом проговорил он. – В-вернули. П-продержали три года и в-вернули. Сказали, что нельзя. М-мол, мы бы очень хотели, но есть указание. Т-там такая п-прекрасная редакторша В-верочка**... Она заплакала.
Шаламов вдруг стал задыхаться и, заведя назад руку, попытался нащупать стул. Кто-то поспешно его пододвинул. Он сел и согнулся, словно у него нестерпимо заболело внутри:
– А я, с-старый д-дурак, на что-то надеялся. Н-никогда не надеялся. Это г-главный был п-принцип. А тут п-подловили на п-приманку... И с-самое удивительное, что все они в редакции т-тоже в-верили. Но вот, в-вернули.
Читать дальше