На самых бурных планерках и летучках Тер никогда не терял самообладания, не повышал голоса,— как бы ни кипели страсти, он был само спокойствие. Его оружием была ирония, однако своими шуточками и насмешливыми репликами он не задевал больно, не обижал. Помню забавный, очень характерный разговор с ним.
Как-то — было это в кочетовские времена — он неожиданно спросил у меня, хорошо ли я знаю одну сотрудницу, работавшую не в нашем разделе.
— Да, еще с университетской поры,— отвечаю ему, недоумевая, почему он этим интересуется.
— Она прекрасная журналистка.
— Замечательная,— подхватываю я.— У нее такая хватка, что никто в редакции не может с ней тягаться. А кто еще отдает газете так много сил и времени!
— Да-да,— соглашается Тер и ошарашивает меня неожиданным вопросом.— А почему она не замужем?
Я пожимаю плечами, показывая, что вопрос этот бестактен, и обсуждать его я не намерен. Но Тер на это не реагирует и тем же безмятежным тоном задает мне следующий не менее бестактный вопрос:
— А нельзя ее выдать замуж?
— Это ее дело. Захочет — выйдет,— отвечаю я уже с раздражением.
Тер то ли не замечает, то ли делает вид, что не замечает, что разговор этот мне неприятен.
— Вы не правы,— продолжает Тер.— Друзья должны позаботиться о ее судьбе. Она слишком много сил отдает работе. И не всем в редакции это по душе. Я имею в виду начальство. А если бы она половину своей энергии отдавала мужу, семье, остального для газеты было бы сверхдостаточно. И начальство могло бы ее терпеть. Надо ее выдать замуж. Занялись бы этим. А то, боюсь, ее выживут из газеты...
Весь этот разговор Тер проводит, явно потешаясь над моей недогадливостью, над тем, что я вполне серьезно воспринимаю его наводящие вопросы, хотя он просто хочет предупредить меня об опасности. Кстати, он ее не преувеличил: через некоторое время мою университетскую приятельницу из «Литературки» выставили, она ушла в другую газету, в которой по сю пору одна из самых ярких звезд...
Постепенно Тертерян навел порядок в секретариате, прекратился лихорадивший газету постоянный аврал, меньше стало опозданий, покончено было с нелепым — «версточным» — планированием, когда в секретариате руководствовались только размером материала, затыкали «дырки» на полосе. В общем, с ответственным секретарем нам повезло. Но через какое-то время Тертерян стал замом главного, а со сменившим его в секретариате Прудковым отношения у нас не сложились.
В пополнившейся редколлегии не все было ладно. Отдел братских литератур возглавил Григорий Корабельников. Он уже в ту пору был ветераном литературы, в молодости, в начале 30-х годов, активно действовал в РАППЕ, избирался делегатом Первого съезда писателей, много лет проработал в тех структурах Союза писателей и органах печати, которые занимались литературами народов СССР, знал здесь всех и вся, подводные камни. Ему и самому досталось: в тридцать седьмом году его исключили из Союза писателей. Этот горький опыт не прошел для него даром, пуганая ворона куста боится, скрытые подводные камни ему мерещились повсюду. Он дул и на холодное.
Еще больше неприятностей возникало с Евгением Сурковым, который стал шефом отдела искусства. Одаренный, образованный критик, Сурков был человеком с невыносимым характером, склонным к истерии, обуреваемым многими комплексами, к тому же не чуравшимся наушничества. Если Корабельников старался находиться на максимальном удалении от «линии фронта», честолюбивый Сурков хотел быть первым на разминированной территории, но при этом очень боялся промахнуться и метался — то рвался вдруг вперед, то неожиданно отступал назад. В течение одного дня — в зависимости от телефонного звонка, от дошедшего до него слуха — он менял свои решения на прямо противоположные, и даже не один раз. Сотрудники его отдела — работали там прекрасные критики и журналисты: Юрий Ханютин, Борис Медведев, Людмила Семенова, Вера Шитова — скрипели зубами, работа превращалась в ад.
Когда «Литературка» затеяла дискуссию о драматургии, Сурков, по три раза на дню то снимая, то ставя материалы, доводил до белого каления даже таких уравновешенных, выдержанных людей, как Косолапов и Тертерян. Он должен был написать статью, подводящую итоги этой дискуссии, но, боясь оступиться, ненароком задеть какую-нибудь мину, тянул резину, довел дело до последнего дня и неожиданно скрылся — никого не предупредив, укатил в заграничную командировку, поставив редакцию в трудное положение. Возвратившись, после крупного объяснения со Смирновым, подал заявление об уходе, а потом наглотался каких-то таблеток — к счастью, обошлось... Правда, один из сотрудников его отдела сказал нам: «Не волнуйтесь, он дозу знает».
Читать дальше
![Лазарь Лазарев Шестой этаж [1993] обложка книги](/books/394571/lazar-lazarev-shestoj-etazh-1993-cover.webp)


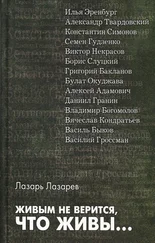



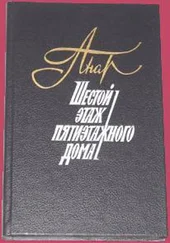
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)
