В районе тракторного завода немцы высадили крупный десант. Наш батальон всю ночь сражался. К утру фашисты вынуждены были отступить.
Последнюю неделю августа и в сентябре мы были в отрядах народного ополчения, вместе с бойцами регулярных войск защищали «Красный Октябрь».
Трудные дни и ночи Сталинграда! Бои шли за каждый клочок нашей земли. Не на жизнь, а насмерть. Спустя год после победы меня наградили медалью «За оборону Сталинграда». Она очень дорога мне, как память о тех жестоких испытаниях, которые пришлось выдержать моему поколению в ту незабываемую пору.
В докладе на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, М. С. Горбачев сказал:
«Во время грозной опасности наша страна стала поистине единым военным лагерем. Беспримерное геройство и стойкость проявил советский рабочий класс. В самые трудные минуты рабочие батальоны вливались в ряды сражающейся армии, работа в цехах не прерывалась даже тогда, когда враг стоял буквально у заводских стен, а снаряды и бомбы рвались рядом. Высокой сознательностью и организованностью рабочий класс еще раз подтвердил свою роль ведущей силы советского общества, сделал все необходимое для Победы».
Эти слова относятся и к моим землякам-сталинградцам.
В сентябре сорок второго поступил приказ Государственного Комитета Обороны — эвакуировать всех краснооктябрьцев на Урал. Помню, эвакуацией руководил бывший в то время начальник «Главспецстали» А. Г. Шереметьев. Мы обратились к нему:
— Почему нас отправляют в Челябинск? Ведь там нет никакой металлургии.
— Нет, так будет! — ответил он уверенно.
Переправлялись через Волгу на пароме глубокой ночью, но гитлеровцы «повесили» в небе «фонари» (от них было светло, как днем) и бомбили беспрерывно. Паром мотало, как челнок. Много погибло людей, Волга была красной от крови. В ту пору ее называли горящей рекой.
Через три недели мы прибыли на станцию Баландино. Семьи оставили в вагонах, а сами пошли узнать, где строился металлургический завод. Оказалось, в километрах пятнадцати-двадцати от станции. Дорога была плохой, идти трудно. Навстречу дул холодный пронизывающий северяк с крупой.
— Южный Урал действительно не Северный Кавказ, — вспомнил я, поеживаясь, остроту, брошенную кем-то в поезде.
— Ничего, привыкнем — не такое испытали! — вполне оптимистично ответил Михаил Елисеевич Бойко (после войны он станет начальником прокатного цеха, позднее главным прокатчиком завода). — Где-то тут, по моим данным, должна быть станция Шагол.
— Послушаем, что споет нам этот щегол, — попытался я снова пошутить.
За разговорами, шутками вроде как было теплее.
Перед нами предстала панорама строившегося завода. На месте березовых колок, болотных кустарников и чахлого редколесья строители рыли котлованы, возводили корпуса будущих цехов, наладчики и эксплуатационники монтировали металлургическое оборудование. Кругом горели костры, иначе не продолбишь землю. Повсюду слышались простуженные мужские голоса, кое-где гремел оркестр — под музыку, видимо, легче работалось. Иногда все это заглушали свистки паропутевых кранов и тарахтенье трехтонок с газогенераторами по обеим сторонам кабины — горючего не хватало, уральцы первыми перешли на деревянное топливо.
Людей на стройке было много — тысячи, десятки тысяч. Русские, украинцы, белорусы, армяне, узбеки, казахи, немцы — кого только здесь не было! Многие одеты в армейские ватники — это бойцы 5-й саперной армии, прибывшие сюда из-под Сталинграда. Чувствовалось, здесь тоже фронт. Трудовой! Скоро и я со своей семьей стал его участником.
На станцию подъехали грузовые машины из соседних колхозов и совхозов, с ними — представители хозяйств. Всех эвакуированных развезли по окрестным деревням. Мы попали в Худяково, которое находилось недалеко от нынешнего аэропорта. Местные жители взяли в каждый дом по семье. Всех разобрали, а к нам даже никто не подошел. Семья-то большая, одиннадцать человек: мать, пятеро сестер, брат, я, жена моя и двое детей. Мама сама обратилась к одной женщине:
— Дочка, возьми нас, пожалуйста. Ребята в дороге намаялись и уж давно не кормлены.
— Дом-то у меня небольшой, а вас вон сколько! — ответила женщина. — Но не оставаться же под открытым небом?! Что ж, пойдемте.
Хозяйку нашу звали Прасковьей Ивановной. Фамилия, как и у многих в деревне, Худякова. Муж и сын воевали, а другой — подросток — был при ней.
Читать дальше
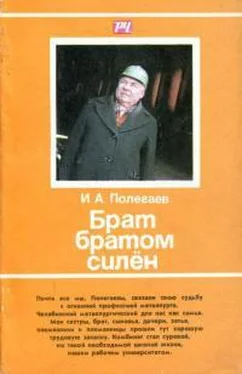
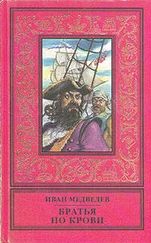

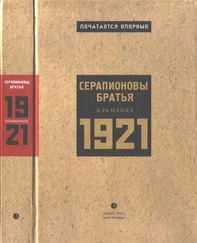


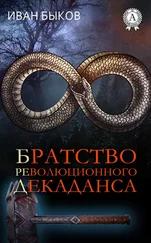
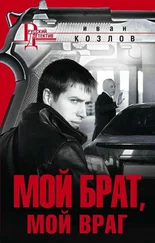
![Николас Спаркс - Три недели с моим братом [litres]](/books/420729/nikolas-sparks-tri-nedeli-s-moim-bratom-litres-thumb.webp)
