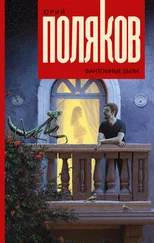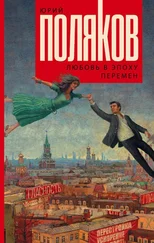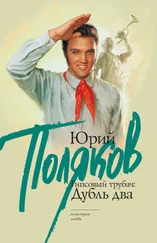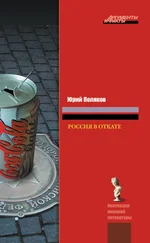Моя снисходительная интонация разочаровала некоторых вчерашних хвалителей, мгновенно превратившихся в хулителей. От меня ждали вклад в «науку ненависти», в которую, по-моему, вкачали денег больше, чем во все остальные науки и искусства, вместе взятые. А я вдруг написал острую, смешливую, но снисходительную повесть о неуспешной любви времён застоя. Как же это не понравилось! Особенно критикам, видевшим в тогдашней литературе исключительно стенобитную машину для сокрушения «империи зла». Ни одна моя вещь, кроме «Демгородка», не вызвала таких критических залпов со всех сторон. Я был похож на голубя, принёсшего оливковую ветвь на ковчег, когда его обитатели, перессорившись, дрались стенка на стенку. Надеюсь, читателям, пережившим и путчи, и танковую стрельбу в центре столицы, и шоковую терапию, и хроническое беззарплатье, и прочие неприятности, невообразимые в прежние времена, теперь стало ясно, кто был прав в том давнем споре.
Редакционная коллегия «Юности», согласившись с мнением моего давнего недоброжелателя Виктора Липатова, отвергла повесть, и только после вмешательства Дементьева был найден компромисс: маленькую стостраничную вещицу решили печатать в трёх летних, самых глухих, невостребованных номерах. Начав первые главы «Парижской любви…» при социализме, подписчики журнала дочитывали окончание уже при капитализме. На фоне последних и решительных боёв за власть, развернувшихся в агонизирующем Советском Союзе, повесть и в самом деле выглядела иронической пасторалью.
Критика – и правая, и левая – мою вещь решительно отринула, объявив откровенной неудачей. Елена Иваницкая в «Литературном обозрении» в большой статье «К вопросу о…», посвящённой моим сочинениям, писала: «Парижская любовь Кости Гуманкова» тихо разваливалась в летних номерах «Юности», и теперь читатель, у которого хватило терпения дождаться последней фразы, может окинуть взглядом всю груду кирпичей, из которых автор пытался своё произведение сложить. Замысел, кажется, был грандиозен: показать на примере некоей «специальной» туристической группы всё предперестроечное общество и эпилогом дать его перестроечную судьбу…»
Недоумевали даже дружественные журналисты. Л. Фомина спрашивала в декабре 1991 года в интервью для «Московской правды»:
– Юрий Михайлович, ваши повести «ЧП районного масштаба », «Сто дней до приказа», увидевшие свет на страницах журнала « Юность» с наступлением гласности, сразу стали не только фактом литературы, но и мишенью для ожесточённых нападок со стороны многочисленных оппонентов, некоторые из которых не могут успокоиться до сих пор. Появившийся чуть позже в том же журнале « Апофегей» уже не вызвал столь бурной реакции, хотя в нём довольно откровенно показана скрытая от многих глаз жизнь партийных функционеров. А опубликованная летом – осенью этого года «Парижская любовь Кости Гуманкова» на фоне нашей усложняющейся и ужесточающейся с каждым днём жизни вообще выглядит милым анекдотом на любовно-идеологическую тему. Такое снижение политической, социальной остроты ваших произведений – случайность, дефицит «закрытых» тем или свидетельство изменения некоторых гражданских; писательских позиций?
– Начнём с того, что моя первая повесть «ЧП районного масштаба» появилась в самый канун наступления гласности, зимой 1985 года, и появилась благодаря настойчивости конкретного издания – журнала «Юность», благодаря твёрдости позиции конкретного человека – главного редактора Андрея Дементьева. Нынче многие литераторы не любят вспоминать тех, кто помогал им преодолевать «препоны и рогатки цензуры», скромно ссылаясь исключительно на свой талант и личное мужество. Кстати, если кто-нибудь думает, что сегодня цензуры не существует, то он заблуждается, просто она стала тоньше и безнравственнее, потому что утех застойных «непускателей» с Китайгородского проезда была инструкция, утверждённая наверху, а у нынешних, как правило, личные и глубоко осознанные мотивы. Например, недавно меня пригласили поучаствовать в «Пресс-клубе» авторского телевидения. И что же? Через неделю я наблюдал на экране свою безмолвную физиономию: ничего из сказанного мной в эфир не попало. Вот такая, понимаете ли, авторская цензура.
Что же касается, как вы говорите, снижения остроты моих последних вещей, то это совершенно естественный процесс. Эпоха «разгребания грязи» и «срывания всех и всяческих масок» заканчивается. Людям интересно читать о жизни, а не о грязи. Кроме того, «разгребателем грязи», или «чернушником», я себя никогда не чувствовал, а просто темы – комсомол, школа, армия, к которым я, следуя своему личному опыту, поначалу обратился, – были настолько замифологизированы и затабуированы, что любое слово достоверности воспринималось читателями как откровение. Придуманной действительности социалистического реализма достоверность была просто не нужна, и в известной степени литература первых лет гласности была возвращением к нормам критического реализма. Точность – вежливость писателя. Увлекательность, кстати говоря, тоже. Это мой принцип. Кроме того, по моему убеждению, с возрастом писатель должен становиться добрее: чем глубже вникаешь в жизнь, тем терпимее становишься. От объявления, скажем, всех партократов монстрами до концлагерей всего один шаг. Сочувствующие мне читатели смогут проследить эту мою внутреннюю эволюцию по моим книгам…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу