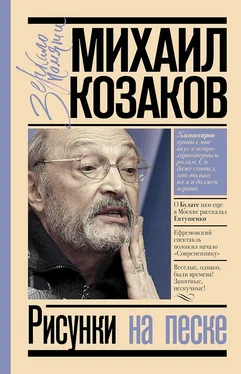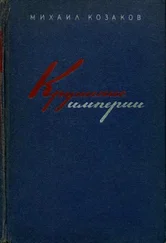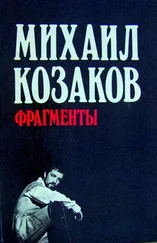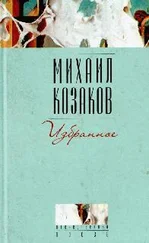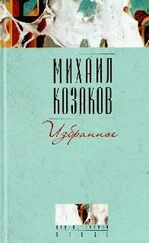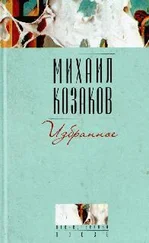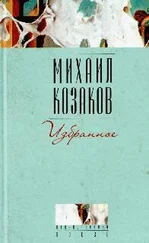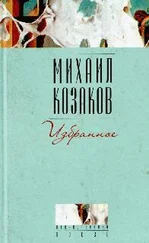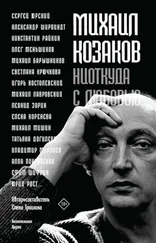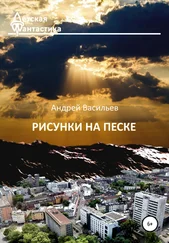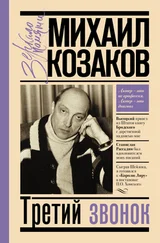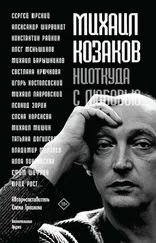Не упомню никаких интервью С.Ф. (может и были?), никаких публичных панегириков ни в адрес Партии и Правительства, ни даже в адрес Самого, обмолвившегося той сакраментальной фразой «Вот, мол, настоящий народный…»
Да и много позже, когда он сыграл в «Сереже» Данелии и Таланкина или доктора Дымова в «Попрыгунье», Отелло в фильме Юткевича, не припоминается никаких сенсационных громких высказываний актера-Бондарчука… О нем много и разнообразно писали, обсуждали, он сам был не красноречив и, как мне кажется, закрыт и, не побоюсь слова, скрытен. О нем говорили, сплетничали, судачили. Вот, мол, бросил Инну Макарову и зароманился, а потом и женился на красавице Дездемонне — Ирине Скобцевой. Первый и единственный советский артист, которого выпустили сниматься в буржуазную Италию. «Шевроле» себе привез! Факт по тем временам небывалый. Даром что «Шевроле» был подержанный и никаких таких буржуазных миллионных гонораров Бондарчуку получить тогда не светило… Но все эти разговорчики и разговоры затмила новость: Бондарь-то будет снимать кино как режиссер! Эк куда его занесло: режиссуре не учился, университетов не кончал, а берется за фильм по широко тогда известному рассказу классика советской литературы М. Шолохова «Судьба человека»! Взялся, снял, сыграл. Успех. Признание. И не только в Союзе.
Но в самом конце 60-х я еще чувствовал иронию по отношению к этому загадочному Бондарю. Так случилось, что в это время, в конце 60-х, мы жили в одном с ним кооперативном доме. Там же жил Владимир Наумов, а его друг Александров Алов — в соседнем с нашим. Вместе они снимали замечательные фильмы «Мир входящему», «Скверный анекдот», позже «Как закалялась сталь» и «Уленшпигель». Режиссеры-интеллектуалы, острословы и умники… Однажды мы возвращались вместе в наши дома в районе Аэропортовской из Дома кино после просмотра какого-то зарубежного фильма. В машине этой ехал и С. Ф. Не помню деталей разговора, но четко помню шутливо-иронический тон, в котором «левые» режиссеры Володя и Саша вели разговор с уже начавшим седеть Бондарчуком… Порой шпильки были на грани фола. С.Ф. отмалчивался или иногда что-то бурчал в ответ. Абсолютно беззлобно, словно подколки были отпущены не по его адресу… Все они, тогда для меня, молодого актера, были абсолютными мэтрами и я, разумеется, помалкивал, пытаясь понять природу отношений между собеседниками-режиссерами, один из которых С. Ф. Бондарчук, к моему удивлению, только что-то бурчал в ответ и совсем не собирался поставить на место иронистов и соседей. Боюсь ошибиться, но ирония была вызвана действительно тем неслыханным фактом, что С. Ф. Бондарчук решил снимать уже не советского классика Шолохова, а величайший из Великих романов всех времен и народов «Война и мир» Л. Н. Толстого!
Весть об этом предстоящем событии обсуждали ВСЕ.
До того на мировых экранах и даже у нас в стране с огромным и неожиданным для нас, русских читателей и зрителей, успехом была показана американская экранизация великого романа Толстого. Стало быть дуэль? «Наш ответ Керзону»? Похоже, что так. Но кто, кто решился?
Все тот же кобзарь-Бондарь! Да, уже была «Судьба человека», про попавшего в плен простого русского солдата, почти монофильм автора экранизации рассказа Шолохова «После первой не закусываем…» Да, снято мастерски, раскадровано превосходно, все достоверно, стильно, эмоционально… Но эпопея «Война и мир», философский роман, сотни действующих лиц, салон Анны Павловны Шерер, балы, императоры, их свиты, пожар Москвы, Андрей Болконский — русский Гамлет. А кто после Одри Хэпберн — рискнет стать Наташей Ростовой? Тысячи, тысячи вопросов. Понятно — «Война и мир»… Это даже не эйзенштейновская эпопея в в общем-то условном жанре (гениальная догадка гения), вторая серия, некий оперного толка мюзикл (а как показать кровавый разгул опричнины царя-Ивана?), любой натурализм при необходимом размахе был бы отвратителен по вкусу…
Но «Война и мир» Л. Н. Толстого исключает любую условность эйзенштейновского монтажа аттракционов, фактура толстовского сочинения при эпическом размахе Саваофа литературы безмерно реалистична, подробна до микроскопичности изображения рисунка на пуговице мундира пехотинца или дипломата… А знаменитое символическое возрождение засыхающего дуба — оживание чувств Андрея Болконского, полюбившего девочку Наташу Ростову, как и бесчисленные другие образы, выраженные в поэтически-философской прозе гения, говорившего: «На моих страницах как на коньках не прокатишься…». Многослойный роман Толстого выстроен к тому же ритмически безупречно… Ни одной длинноты, все кажется необходимым, жалко пропустить хоть строчку, хоть слово. Ведь только читающие мальчики предпочитали изображения войны, а девочки опускали эти главы Толстого, зачитываясь «миром», где «про любовь» Наташи, Сони, Николеньки и Бориса Берга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу