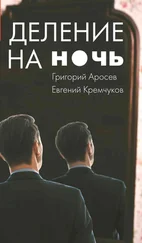(В их доме работали чуть ли не полсотни человек. Вопреки этому – а может, благодаря этому? – никаким порядком не пахло. Единого управляющего не существовало. Какое-то время главной считалась очень старая экономка, которая была настолько скупой, что тайком от нее в доме ввели другой порядок. Пышным цветом цвело воровство, а заправляли всем повар Николай и садовник Егор. Последний был настолько умелым жуликом, что сумел накопить на загородный дом на станции Сиверской. Впрочем, ни Владимир Дмитриевич, ни его жена не интересовались хозяйством, не принимали в нем никакого участия: Набоков составлял меню на завтрак, но это была традиция, а не необходимость. Все оставалось в неустойчивом равновесии.)
Да, Набоков жил ровно так, как хотел, но в первую очередь он был честнейшим человеком, который никогда не поступал против совести – иное было бы с радостью зафиксировано его недругами. Он ставил превыше всего не просто человеческую свободу (хотя и ее тоже), а неприкосновенность человеческого достоинства, и всеми силами добивался достойного поведения от государства по отношению к своим гражданам.
Не думаю, что подобное поведение давалось Набокову с трудом: материальное положение позволяло ему быть честным и принципиальным, а общечеловеческая порядочность была им если не передана личными примерами предков, то унаследована генетическим путем (другой вопрос, от кого), то есть он с этим просто родился. И Набокову удалось не потерять свою порядочность ни в свои спокойные петербургские годы, ни в революционном вихре, ни в политически циклоническом Крыму, ни в Берлине, где он прожил последние годы.
Более того: автор этой книги рискует вызвать на себя гнев поклонников Владимира Набокова – младшего, но все-таки скажет, что Набоков-старший по человеческим качествам стоит значительно выше сына. Литературный гений, которым обладал Набоков-младший, бесспорен и огромен, но мы ведем речь несколько о другом. С уважением к окружающим, с восприятием мнений других людей у писателя Владимира Набокова было все совсем не так, как у политика Владимира Набокова.
…Смертная казнь была отменена только 12 марта 1917 года Временным правительством князя Львова (министром юстиции в нем был А. Ф. Керенский). Шесть дней спустя Владимир Дмитриевич Набоков опубликовал в «Речи» статью, в которой дал краткий обзор борьбы за отмену смертной казни и, в частности, написал: «Россия присоединяется к государствам, не знающим более ни гнусности палача, ни стыда и позора судебного убийства. Наверное, ни в одной стране нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас».
Набоков радовался недолго: ровно через четыре месяца, аккурат 12 июля 1917 года, смертная казнь была восстановлена: ее вернули за преступления, совершаемые на фронте. Под нее подпадали убийства, разбои, измены, побеги к неприятелю, сдача в плен, уход с поля боя и некоторые другие проступки. Вскоре после этого В. Д. Набоков выступил с речью в Петроградской городской думе и поддержал (!!!) восстановление смертной казни в свете возможной анархии, развала фронта и большевистской угрозы. Речь Набокова произвела настоящий фурор: никто не ожидал, что такие мысли могут быть высказаны одним из главных гуманистов и либералов тогдашнего общества.
Набоков, конечно, был предельно искренен: он понимал, что текущие и наступающие события подрывают устои того государства, которое он хотел изменить, но совсем не хотел потерять.
Увы, ему пришлось.
⁂
Кадеты не желали распада империи. Даже автономное государственное устройство предусматривалось только для двух частей – Польши, где оно существовало раньше, и Финляндии, где оно тогда продолжало существовать. Всем остальным народам предлагалось культурно-национальное самоопределение, в частности право получения начального образования на родном языке, причем только начального, так как о дальнейшем образовании на национальных языках кадетская программа выражалась с сугубой осторожностью, делая оговорку «по возможности». Русский язык должен был оставаться в статусе государственного. К сожалению, эти, а равно многие другие идеи и предложения кадетов оказались одинаково неприемлемыми как для правого, так и для левого флангов российского политического ландшафта. Но это стало ясно значительно позднее.
Высшим органом кадетов был съезд, который избирал Центральный комитет, в свою очередь состоявший из двух отделов: Петербургского и Московского. ЦК кадетов был учреждением престижным, за ним следили, входить в него считалось даже определенной честью, тем более что в целом партия имела интеллигентский облик – бóльшую часть ее составляли учителя, профессора, врачи, журналисты. Но, интересный нюанс, не студенты! И дело было не в каком-то государственном запрете для студентов, просто кадеты оказались слишком академичным формированием, слишком воспитанным (по мнению многих оппонентов), слишком умеренным. Студенты должны быть по убеждениям яростными и категоричными, кадеты им не подходили изначально, социалисты – куда больше. Студенческие группы кадетов существовали, но их было очень мало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
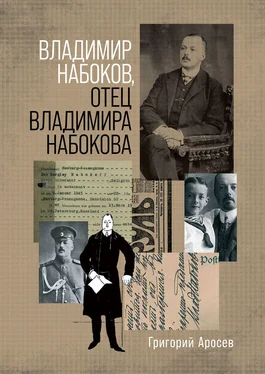
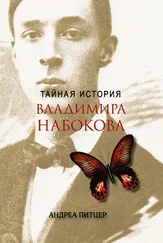

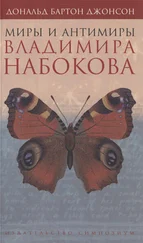
![Григорий Аросев - Шестнадцать карт [Роман шестнадцати авторов]](/books/195408/grigorij-arosev-shestnadcat-kart-roman-shestnadcat-thumb.webp)