Не горсть надежд беспамятными днями здесь в щели улиц брошена, в поля, где пашня, груди стуже оголя, зимой сечется мутными дождями. Свивались в пламени страницами года, запачканные глиной огородов; вроставшие, как рак, в тела народов и душным сном прожитые тогда; – сценарии, актеры и пожары – осадком в памяти, как будто прочитал разрозненных столетий мемуары.
За валом вал, грозя, перелетал; сквозь шлюзы улиц по
дорожным стокам с полей текли войска густым потоком, пока настал в безмолвии отлив. Змеится век под лесом вереница, стеной прозрачной земли разделив: там улеглась, ворочаясь, граница.
—
За то, что Ты мне видеть это дал, молясь, теперь я жизнь благословляю. Но и тогда, со страхом принимая дни обнаженные, я тоже не роптал. В век закаленья кровью и сомненьем, в мир испытанья духа закаленьем травинкой скромной вросший, от Тебя на шумы жизни отзвуками полный, не отвечал движеньями на волны, то поглощавшие в мрак омутов, безмолвный, то изрыгавшие, играя и трубя.
В топь одиночества, в леса души немые, бледнея в их дыханьи, уходил, и слушал я оттуда дни земные: под их корой движенье тайных сил.
Какой-то трепет жизни сладострастный жег слух и взгляд и отнимал язык – был ликованьем каждый встречный миг, жизнь каждой вещи – явной и прекрасной. Вдыхать, смотреть, бывало, я зову на солнце тело, если только в силе;
подошвой рваной чувствовать траву, неровность камней, мягкость теплой пыли. А за работой, в доме тот же свет: по вечерам, когда в горшках дрожащих звучит оркестром на плите обед, следил я танец отсветов блудящих: по стенам грязным трещины плиты потоки бликов разноцветных лили, и колебались в них из темноты на паутинах нити серой пыли.
—
Но юношей, с измученным лицом – кощунственным намеком искаженным, заглядывал порою день буденный на дно кирпичных стен – в наш дом: следил за телом бледным, неумелым, трепещущим от каждого толчка – как вдохновенье в сердце недозрелом, и на струне кровавой языка сольфеджио по старым нотам пело.
Тогда глаза сонливые огня и тишины (часы не поправляли), пытавшейся над скрежетом плиты навязывать слащавые мечты, неугасимые, для сердца потухали: смех (издевательский, жестокий) над собой, свое же тело исступленно жаля, овладевал испуганной душой. Засохший яд вспухающих уку —
сов я слизывал горячею слюной, стыдясь до боли мыслей, чувств и вкусов.
—
Боясь себя, я телом грел мечту, не раз в часы вечерних ожиданий родных со службы, приглушив плиту, я трепетал от близости желаний – убить вселенную: весь загорясь огнем любви, восторга, без пития и пищи, и отдыха покинуть вдруг жилище; и в никуда с безумием вдвоем идти, пока еще питают силы, и движут мускулы, перерождаясь в жилы.
То иначе —: слепящий мокрый снег; петля скользящая в руках окоченелых и безразличный в воздухе ночлег, когда обвиснет на веревке тело.
В минуты проблеска, когда благословлял всю меру слабости над тьмой уничтоженья – пусть Твоего не слышал приближенья, пусть утешенья слов не узнавал – касался, может быть, я области прозренья.
Скит
II.– 8.– 27 г.
Острог. Замок.
Не все ль равно, по старым образцам
Или своими скромными словами,
Не подражая умершим творцам,
Захочешь ты раскрыться перед нами.
Пусть только слов созвучие и смысл
Для современников невольно будет ясен,
Прост, как узор уму доступных числ,
И, как дыханье вечного, прекрасен.
Чтоб ты сказал измученным сердцам,
Измученным в отчаяньи скитанья,
И за себя и тех, кто молча там
Десятилетье принимал страданья.
Ведь Пушкин, смелый лицеист-шалун
И не лишенный, как и солнце, пятен,
За то и отлит внуками в чугун,
Что был, волнуя, каждому понятен.
401. Памяти Исидора Шараневича
1
Забывшая об имени народа,
как человек, отрекшийся от рода,
страна теряет имя и язык,
который в ней и от нее возник.
И языки чужие, у порога
стоявшие с насмешкой и мечем,
несут свои обычаи и бога,
опустошая пастбище и дом.
Когда же память прошлого святая
стоит на страже вечной, охраняя
что есть, что будет и что может быть,
тогда стране – пускай она в печали,
пускай ее пригнули и сковали —
дано расправить члены и ожить.
О прошлом память, точно вдохновенье,
ведет на бой… нисходит – в тишине.
Рисует мне мое воображенье
ее крылатой, зрячей и в огне.
2
Такой же, верно, и к нему впервые
она явилась в таинстве ночном.
Он юношей сгибался над столом,
заправив свечи ярко-золотые.
Бессонный шорох шарил и бродил
той лунной ночью в усыпленном зданьи,
когда невидных крыльев трепетанье
он над собой с волненьем ощутил.
И посвятил себя ее служенью,
построив храм священному волненью
ночной работы, шелесту страниц.
Из давнего, не подчиняясь тленью,
в него глядели вереницы лиц.
И шевелились кости под землею,
и обростали плотью, и вставал
к нему разбойник из Карпатских скал,
князь, венчанный короной золотою,
а и рассказ отчетливой рукою
он на страницах книг восстановлял.
Читать дальше
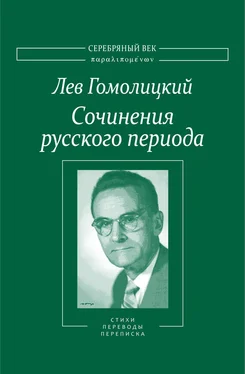







![Лев Ошанин - Вода бессмертия [роман в стихах]](/books/430610/lev-oshanin-voda-bessmertiya-roman-v-stihah-thumb.webp)
![Лев Ошанин - Талисман Авиценны [роман в стихах]](/books/430611/lev-oshanin-talisman-avicenny-roman-v-stihah-thumb.webp)
