Уже в ХХ столетии музыковеды иначе подходят к вопросу о программности в творчестве Шопена. Ирена Понятовская в своем эссе о Шопене пишет: «Чем был романтизм и что он означал в творчестве Шопена? Прежде всего нужно сказать, что сосуществовали разные романтизмы: романтизм, постулирующий соединение искусств по принципу «correspondance des arts» [1] соответствие искусств (франц.)
с сильным воздействием литературы, а также противоположное течение – абсолютной музыки, следующей классическим формам, в котором стилистика, однако, была романтической». Стасов опирался на романтизм первого типа – одним из главнейших достижений романтизма он считал, как уже говорилось, программность. По мнению же Понятовской, «это абсолютная музыка, без следа каких-либо программных ассоциаций» 9.
* * *
Другим аспектом нашего исследования является упорная и часто повторяемая мысль Стасова о творческих связях Шопена с первым русским профессиональным композитором Михаилом Глинкой, который в работах Стасова был возведен на недосягаемый пьедестал. Почти на протяжении 50 лет Стасов всякий раз, когда затрагивал тему о национальном в искусстве, называл имя Шопена рядом с именем Глинки.
В своей монографии «Михаил Иванович Глинка» Стасов сопоставляет Шопена и Глинку по разным линиям. Говоря о романсах Глинки, Стасов считает, что натуры обоих славянских художников удивительно схожи, если бы «талант Шопена не был означен какою-то особой печатью болезненности, вечного томления, страдальчества, постоянной минорности настроения» 10.
Глинка и Шопен, как художники нового времени, были определенным образом связаны между собой в поисках новых форм и новых средств выражения для своего искусства. Под новыми формами критик подразумевает не собственно форму, но скорее способы звуковысотной организации. Одной из характернейших стилевых черт Шопена и Глинки Стасов считает применение так называемых плагальных каденций. «Они были употребляемы и Вебером, и Мендельсоном, и Шуманом, всего же более Шопеном в его фортепианных вещах, этих истиннейших проявлениях бетховенского духа скорби, самоуглубления и страсти. […] Шопен являлся для Глинки первым провозвестником возможности и необходимости новых форм для выражения тех таинственных, страстных движений души, которые составляют исключительную принадлежность нашего века. […] Шопен являлся для Глинки как бы проводником в новые сферы искусства, заменял ему собой знакомство с теми произведениями Бетховена, которые первые вступили в новооткрытый мир души и нашли им художественное выражение. Знакомство с сочинениями Шопена в период времени после «Ивана Сусанина» имело самое важное значение для таланта Глинки» 11.
Эти мысли развиваются и в других местах стасовской монографии, где речь идет о самобытном истолковании «шопеновских форм» в опере «Иван Сусанин» (названной композитором – «Жизнь за царя»).
Имеется в виду мазурка в сцене в лесу, а также в опере «Руслан и Людмила» и некоторых романсах Глинки. Повсюду Стасов ведет линию шопено-глинкинских исканий от позднего Бетховена. Даже по поводу «Руслана и Людмилы» он пишет: «В этой опере […] у Глинки всего больше родства с Бетховеном и Шопеном, чуть не на каждом шагу чувствуешь, что они все трое […] принадлежат к одному и тому же семейству при всей разности талантов и личностей» 12.
Тезис об особом новаторстве Шопена получил дальнейшее развитие в теоретической работе Стасова «О некоторых формах нынешней музыки». Стасов исходил из того, что Бетховен в последнем периоде своего творчества обновил традиционную мажоро-минорную систему за счет оригинального развития свойств старинных церковных модусов. (Так называемые церковные модусы средневековья отнюдь не являются специальной принадлежностью церковных напевов, но находят свое широкое развитие в народной музыке европейских стран.) Стасов ссылается на поздние сонаты и квартеты, на 9-ю симфонию и «Торжественную мессу», указывая, что новые средства выражения понадобились композитору для воплощения новых задач, величественных, небывалых еще в музыкальном искусстве. Заметим, что и Шопен, и Глинка не увлекались поздним Бетховеном, скорее всего даже не знали его последних опусов. Однако у Стасова постоянно выступает триумвират: Бетховен – Шопен – Глинка.
«Как известно, – утверждает Стасов дальше, – в течение нашего столетия воздвигнулось знамя национальности в искусстве и науке. Музыка последовала за общим движением, и после нескольких первоначальных проб (таковы, например, некоторые места в «Обероне» у Вебера и в венгерских маршах у Франца Шуберта и т. д.). Шопен выступает первым художником, удовлетворяющим мысли о народной мелодии и народной музыкальной форме. Он первый стал стремиться к тому, чтобы передавать народные мелодии (все равно, заимствованные ли, или им самим сочиненные в истинно народном духе) и в их настоящем, не офальшивленном облике, с их самобытным колоритом и ритмом. Он первым стал уметь это, он первый установил наконец, в какую именно гармонию их надо облекать, он первый посмел изображать их со всеми их «нарушениями правил» (по вульгарному понятию), ничуть не приглаживая, не опошляя и не модернизируя их» 13.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
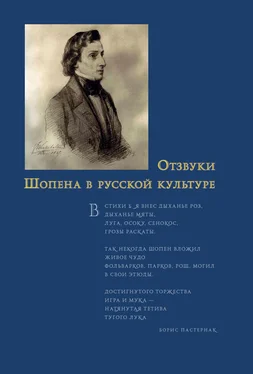




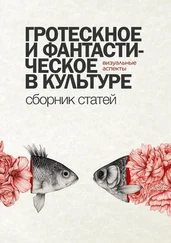



![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)


