И в лядовскую, и в скрябинскую музыку шопеновское проникало первоначально через жанр мазурки. Интересно, что Лядов (как верный ученик Римского-Корсакова) увидел в шопеновском сначала объективную, фольклорно-этнографическую сторону: его мазурки op. 11 № 2 и op. 15 № 2 написаны как картинки (obrazki) в народном духе, с использованием натуральных ходов и квинтовых «скрипичных» созвучий.
Для Скрябина мазурка – импульс полетности, то есть начало обнаружения самой сути «скрябинского». Вскоре дух Шопена обрел новую жизнь в скрябинских прелюдиях и этюдах. Шопеновского у Скрябина так много, что нет смысла выделять какие-то отдельные произведения. Самое удивительное – что все это далеко не подражания, а глубоко личностное претворение шопеновского, сплавленного с многочисленными другими истоками (Шуман, Чайковский, Лист), но безоговорочно доминирующего над всеми ними.
В своем последнем опусе, выйдя далеко за пределы романтической стилистики и создавая атональную музыку, Скрябин возвращается к шопеновской модели: Прелюдия op. 74 № 2 – своего рода «парафраз» на Прелюдию Шопена op. 28 № 2, a-moll (самое «нешопеновское» произведение Шопена, смотрящее в XX век). Общее в них – застылая и диссонантная фигурация с использованием чистых квинт. Интересно, что Б. Асафьев ставил в один ряд с шопеновским циклом 24 прелюдий во всех тональностях op. 28 не op. 11 Скрябина, формально и образно-стилистически к нему более близкий, а именно 5 прелюдий op. 74!
В фортепианной музыке Рахманинова непосредственные шопеновские влияния можно обнаружить, пожалуй, в самых ранних опусах, например, в Элегии и Мелодии из op. 3. К раннему этапу относится и создание Вариаций на тему Шопена.
Зато то, что сделал Рахманинов-пианист для глубокого концепционного осмысления музыки Шопена, переоценить невозможно. Шопен был одним из его любимейших и наиболее часто исполняемых авторов.
Естественно, что XX век, с его антиромантической ориентацией, сделал дальнейшее прямое развитие шопеновских традиций в области композиции практически нереальным. Однако интересно, что иной раз шопеновское проявлялось косвенно, подобно «отраженному свету» и в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Нельзя не вспомнить, что Шостакович в 1927 г. участвовал как пианист в конкурсе имени Шопена в Варшаве и получил там диплом. Вскоре после этого он создает одно из своих самых авангардных и дерзких произведений – фортепианный цикл «Афоризмы». Возникает впечатление, что композитор-пианист, проведя долгое время в общении с музыкой Шопена, захотел полностью отрешиться от мира романтических интонаций и подвергнуть их переосмыслению. Однако он развил шопеновский метод как таковой, используя знаки жанра как носители утонченных смыслов, вступающих между собой в сложнейшую «игру». Вероятно, это и было поводом для критиков упрекать Шостаковича в литературности, которая в целом музыке 1920-х гг. была не свойственна. Но самое примечательное критическое высказывание касается последней пьесы цикла («Колыбельная песня») – о совмещении в ней влияний Стравинского и Шопена – иными словами, о совмещении несовместимого. По сути дела, «Колыбельная» в первую очередь опирается на жанр барочной арии с чертами пассакальи; однако в ее фактуре есть именно шопеновская пространственность.
В заключение кратко скажу и о других аспектах самого глубокого внимания русской музыкальной культуры к Шопену. Взять хотя бы тот факт, что первое полное собрание сочинений Шопена вышло в Санкт-Петербурге. Не могу не назвать пианистов, наиболее тонко проникших в мир Шопена: Владимира Софроницкого, Святослава Рихтера, Евгения Малинина, Михаила Плетнева и т. д. Даже Мария Юдина, которой в целом Шопен не был близок, высказалась о цикле прелюдий как о бесконечно глубокой, уникальнейшей концепции.
Для понимания глубины новаций Шопена много сделали русские музыковеды. Болеслав Яворский оценивал Шопена как одну из вершин мировой музыки, как зачинателя новой, «психологической» эпохи. В гармоническом языке польского романтика Яворский усматривал проявление черт нового мышления, развившегося в конечном счете в неклассические «симметричные лады» 10. Борису Асафьеву принадлежат три работы, посвященные специально изучению Шопена 11. Многие русские теоретики вскрыли специфические проявления логики и красоты в гармонии, построении формы, синтаксисе Шопена. Здесь в первую очередь следует назвать Льва Мазеля, труды которого были собраны в книгу «Исследования о Шопене» 12, Виктора Цуккермана 13, Сергея Скребкова 14, Виктора Бобровского, Юрия Холопова. Совсем недавно композитор Сергей Слонимский выпустил книгу «О новаторстве Шопена» 15.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
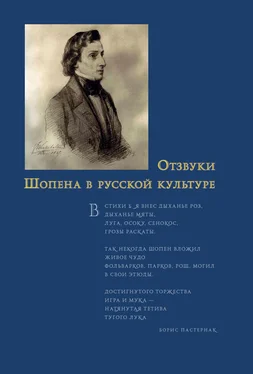




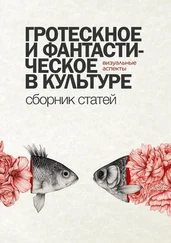



![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)


