Говоря о деталях гармонического языка своей «Песни Маргариты» (по Гете), Глинка, по воспоминаниям Серова, замечает: «У Шопена тоже не редки такие модуляции. Это наша с ним родная жилка» 4. Упоминание об общей «родной жилке» можно воспринимать не только применительно к музыкальному мышлению двух славянских композиторов: среди предков Глинки были поляки, и вообще смоленская земля – родина Глинки – в течение долгого времени испытывала влияние Польши.
Самое «шопеновское» произведение Глинки – его Мазурка До мажор, которую можно было бы назвать «воспоминанием о Мазурке Шопена a-moll op. 17 № 4». Конечно, это не подражание, а диалог: Шопен никогда бы не написал такой мазурки – специфически глинкинским остается подчеркнуто вокальная плавность мелодии и всей фактуры, даже некоторый аскетизм выражения, не допускающий ни романтической «импровизационности», ни обостренно-личного чувства «żal». Сам же Серов, подчеркивая значение Шопена как одного из создателей славянской музыки, еще не вполне проникся масштабом шопеновских открытий: «Его создания, хотя и болезненные, хотя и ограниченные областью фортепианной музыки, иногда мелкой, именно со стороны славянских форм имеют необыкновенно важное значение в искусстве столько же, как со стороны гениальной вдохновенности, глубокой искренности производительной силы» (курсив А. Н. Серова) 5.
Вероятно, первыми русскими музыкантами, осознавшими всю глубину и универсальность шопеновского мира, были Антон и Николай Рубинштейны (в Европе таким музыкантом был Лист). Шопен занимал огромное место в репертуаре А. Рубинштейна, но на музыку этого композитора если и оказал влияние, то самое опосредованное и поверхностное. Если для Рубинштейна имя Шопена стояло в одном ряду с Бахом и Бетховеном, то далеко не все музыканты XIX в. воспринимали польско-французского романтика подобным образом. Даже у наших композиторов-шестидесятников XIX в. (и в балакиревском кружке – «Могучей кучке», и у Чайковского) отношения с шопеновской музыкой были не всегда простые. Так, Римский-Корсаков, вспоминая в своей «Летописи» («Летопись моей музыкальной жизни») атмосферу кружка 1860-х гг. и вкусы молодых «радикалов», пишет, что в те годы, согласно их мнению, «Шопен приравнивался к нервной светской даме» (добавим к слову, что ими же «Лист считался изломанным и карикатурным» 6). Собственно, усматривать в Шопене что-то женственное, легковесное и капризно-слащавое было достаточно характерно для эпохи, и повинны в этом, скорее всего, многочисленные пианисты-интерпретаторы средней руки, не обладающие зоркостью и художественным интеллектом Рубинштейнов. Отчасти и сам Шопен дал повод для подобных заключений: не обладая достаточной физической силой, с годами только уменьшавшейся от болезни, он играл очень тихо – как бы «женственно».
Впрочем, Лист уже вскоре стал для балакиревцев почти таким же учителем, авторитетом и источником музыкальных идей, как Глинка, Шуман и Берлиоз. Подобного резкого поворота к Шопену как стилевому истоку не произошло, однако данные из биографий Балакирева и Римского-Корсакова свидетельствуют о значительном углублении понимания Шопена. Собственно, юношеский фортепианный концерт Балакирева испытывает шопеновские влияния и даже предвосхищает тем самым Концерт Скрябина – тоже юношеский и тоже фа-диез-минорный. Но в последующих произведениях Балакирева на некоторое время шопеновское оказалось «заблокированным» специфической эстетикой Новой русской школы. В Балакиревском кружке не поощрялась открыто экспрессивная кантилена широкого дыхания и слишком очевидная опора на «банальные» (что означало – романсовые) интонации. Понятно, что во времена, когда идеи Чернышевского были популярны, чистая совершенная красота – идеальная красота (например, Моцарт или Шопен) – могла вызывать недоверие, а установка на объективность высказывания (что было созвучно реализму в литературе и живописи) стимулировала отвержение Шопена как чересчур «субъективного» и даже болезненного. Так Шопен попал «на одну доску» с «нервной дамой». Повороту балакиревцев к Шопену способствовали: изменение эстетических установок к концу XIX в., с одной стороны, и с другой – постоянное осознание универсального масштаба шопеновского гения (в чем неоценимую роль сыграли концерты и лекции А. Рубинштейна). Со временем Балакирев стал страстным шопенистом и сыграл определяющую роль в «возрождении» родины Шопена – Желязовой Воли. Он принял участие в концерте при открытии памятника Шопену на месте его рождения в 1894 г. А в 1910 г. во время празднования столетия со дня рождения Шопена в Санкт-Петербурге была исполнена симфоническая поэма С. Ляпунова (ученика и последователя Балакирева) «Желязова Воля». Сам же Балакирев оркестровал некоторые произведения Шопена.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
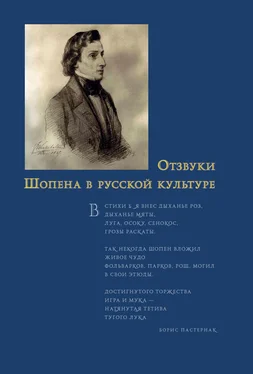




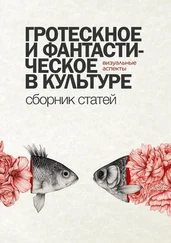



![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)


