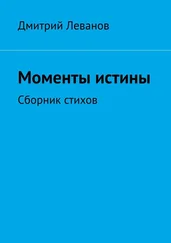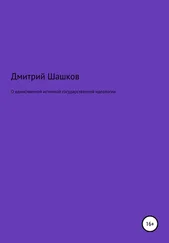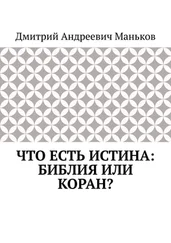– А как вас сыграли «лазаревцы»?
– Превосходно, просто превосходно! Это был, кстати говоря, очень счастливый концерт, очень праздничный для меня. Как сейчас помню, он состоялся 14 декабря 1981-го года в Доме Композиторов и при этом было очень много людей.
«Соната для шести» 1973; флейта-пикколо, флейта, кларнет, альт, виолончель, контрабас; 2 части; dur. 6';вариант для фортепиано
– Это важное сочинение, хотя и коротенькое – оно идет максимум шесть минут, а то и меньше – это зависит от темпов.
– А почему важное?
– Потому, что здесь моя собственная двенадцатититоновая техника решалась довольно необычным путем. Я впервые захотел написать нечто ортодоксальное. Но тут встала проблема: если техника ортодоксальная, значит все пишется как производное от одного ряда. И тогда впервые, и как потом уже во всех моих последующих двенадцатитоновых сочинениях, – а у меня большинство двенадцатитоновой музыки, – я счел нужным начать спонтанно. То есть я сочиняю некую тему, которая легко укладывалась в двенадцатитоновую технику, и потом уже дальше она уже становится законом, и очень суровым, для всего остального. Тем более, что ведь не всегда понятие темы совпадает с понятием ряда, как вы знаете. И вот это спонтанное начало нужно иметь в виду, когда смотрите мои сочинения – это происходит постоянно, нет ни одного сочинения, которое я бы вначале рассчитал, написал бы заранее некий ряд, а потом начал бы под этот ряд подсовывать нечто похожее на музыку, то есть его как-то развивать. И тут я начал долго размышлять, – а это произведение писалось не менее полугода, хотя оно вот такое короткое, – я подумал о том, что если ряд – это есть некий закон неповторяемых высот, который действует в малом, то пусть он себя одновременно проявит и в прогрессии. Сейчас я иногда могу и немножко иначе это выстраивать, но тогда я рассуждал именно так. При этом я подумал, что если первый вариант этого ряда в каком-то сочинении начинается с первого звука моей серии, то второй его вариант – следующий ряд – должен начинаться уже со следующего ее звука, а третий должен начинаться с третьего звука, четвертый – с четвертого и так до двенадцатого включительно! И дальше получается ряд уже второго порядка. А он в свою очередь может служить основой для ряда третьего порядка и четвертого, если нужно, но до четвертого не доходит обычно, потому что для этого нужно сочинять просто огромное произведение (по-моему, в опере я дошел все-таки до четвертого порядка). А в данном случае я «играл» только первым и вторым порядком рядов.
Теперь о составе. Состав тоже был подобран неслучайно: три высоких духовых деревянных и три низких струнных, то есть пикколо, флейта, кларнет, альт, виолончель и контрабас. Здесь нет, как видите, ни гобоя, ни фагота – максимально выровненный состав – только все мягкие тембры или относительно мягкие – кларнет, например, легко переходит и в альт и флейту, то есть взято шесть инструментов, шесть тембров, которые не резко противоречат друг другу, а, напротив, легко переливаются один в другой – такая тонкая игра тембровыми полутонами.
Здесь очень много работы рациональной, почти как ни в каком другом сочинении – огромное количество рядов. Но эта их огромность – это только, так сказать, поверхность всей структуры.
– Вы сказали: «много работы рациональной» – это значит, что были какие-то предварительные расчеты на бумаге?
– Да, конечно. Их надо было бы разыскать, тогда бы наверное я больше сообщил вам об этом сочинении, но где они лежат, даже не знаю. Пока только скажу, что оно двухчастное и что фактически здесь не четыре варианта ряда – основной, ракоход, обращение и обращение ракохода, – а здесь восемь вариантов.
– А за счет чего восемь?
– Объясню. Это за счет того, что для меня здесь, скажем, соль – ля вверх – секунда и соль – ля вниз – септима – это были совершенно разные интервалы, то есть, секунда не равна септиме. Поэтому и получалось восемь вариантов. Каким образом это реализовалось? А таким, что в первой части я пользуюсь только поступенными, плавными интервалами, которые образуют основной вариант серии, а потом ее рак, инверсию и инверсию рака, а во второй части – все это переходит в свою противоположность, то есть, все, что было плавным, стало прыгать, и серия приобрела совершенно другой интервальный облик. Это как бы гармонический антимир первой части и одновременно здесь же возникает и псевдо пуантилизм такой, то есть и какой-то даже фактурный антимир. Хотя конечно, все эти ярлычки, они как всегда очень для меня условны. Но без них и обойтись нельзя в то же время. Кроме того, я еще и камуфлировал здесь многое. Например, я сказал, что появляется, скажем, второй ряд со второго звука, но это так закамуфлировано, чтобы не очень было видно. Тем более, что я начал сочинение сразу не с первого варианта, а с какого-то, не помню, энного варианта, и только потом вернулся к первому. Но сейчас я это сказать вам точно не могу, надо посмотреть тетрадки, расчеты, потому что я всегда не считаю, не умножаю, не делю, так сказать, а именно играю с числами. И говоря откровенно, здесь для меня важен только художественный результат, а не какие-то числовые пути к нему. Это уже не должно никого беспокоить и тем более, если сочинение вам нравится. А если не нравится, то тогда какой вообще смысл в этих расчетах, даже если они сами по себе кажутся интересными и красивыми может быть. Главное, по-моему, все-таки, художественная сторона, музыкальная. Но впрочем, если это не так, со мной можно и не соглашаться, конечно.
Читать дальше
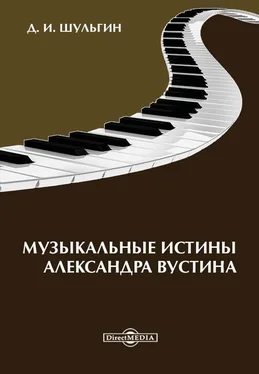

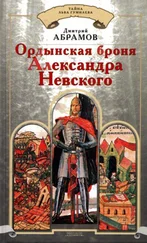

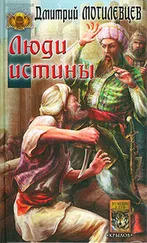
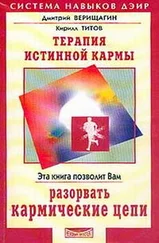
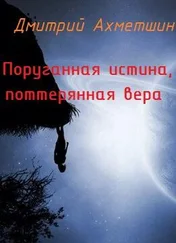

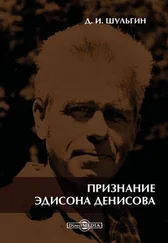
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/390494/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si-thumb.webp)