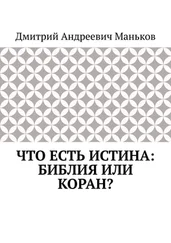– И опять во сне?
– Ну, что вы. Это было бы уже «слишком хорошо». Не во сне, конечно. Совершенно мистериозный кусок, какого-то совершенно болезненно радостного состояния. Не бурно радостного, а болезненно радостного именно, я бы сказал так.
– А он в какую часть вошел?
– В третью. Я, кстати, издал его потом в виде вокализа.
Вначале я начинал этот материал с ми (может быть и правильно начинал), но потом отчего-то растерялся и начал с соль . Здесь была еще и какая-то гармоническая (тогда почему-то важная для меня) работа на «До мажоре». Меня вообще всегда влекло писать музыку и простую и непростую одновременно. Это вот и в «Возвращении домой» 39 39 «Возвращенье домой» – 1981; для баритона и тринадцати инструменталистов (два струнных квартета, два фортепиано, валторна, два исполнителя на ударных иструментах); сл. Д. Щедровицкого; dur. 13'.
, может быть, наиболее цельно воплотилось, и в этой «Кантате…» тоже. В общем, получился какой-то мистериозный, может быть, гимн, но гимн, кстати, скорее внутренний, я не знаю даже, как это точнее охарактеризовать. Ведь это еще тогда поначалу не было прилеплено к какому-то определенному сюжету. Только потом оно стало частью «Кантаты…». Позже. Текста-то здесь в основном нет. Распевается только одно слово – «радость». Это конечно не ода «К радости», но радость такая, знаете, как бы немножко онеггеровская что ли.
– «Онеггеровская»?
– Да. Потому, что я увлекался Онеггером как раз в то самое время. Вспомните, например, его «Царя Давида»…
И первая часть, кстати, также возникала вначале, как бестекстовый хоровой материал. А стихи появились потом. Но как это складывалось конкретно и в какой последовательности я уже совсем не помню. Главное, что вначале это все было без текста и даже были названия: «Песнь скорби», «Песнь мщенья» (вторая часть), «Песнь радости». Но одновременно были у меня и какие-то опасные предчувствия по поводу названий. Наверное, так. Короче говоря, вот на эти три нужных мне состояния, как бы, условно говоря: скорбь, гнев и потустороннюю какую-то радость, я потом довольно долго подыскивал текст.
Это, кстати, сочинение, примыкающее к моему Тейфу 40 40 «Три стихотворения Моисея Тейфа» – 1966; для баса и фортепиано (перевод Ю. Мориц); dur. 9'.
, но без окраски еврейской – просто общая военная тематика. И довольно искусственно в «Кантате…» (некоторая странность какая-то все-таки есть во всем этом, по-моему) возникает текст, потому что он возникает в каждой из частей довольно поздно после длительного развития музыкальной ткани.
И для первого своего образа я нашел стихотворение Пастернака «Страшная сказка». И вот, как видите, стихи эти Пастернака возникают, фактически, уже чуть ли не в качестве коды, или, по крайней мере, эпизода небольшого где-то перед самым концом части:
«Все переменится вокруг,
Отстроится столица,
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.
Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.,
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться».
И чем Пастернак для меня здесь выше Суркова – следующая часть или Элюара – третья часть, – он не говорит о людском суде, а говорит о суде Высшем:
«Запомнится его обстрел,
Сполна зачтется время,
Когда он делал,
Что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век,
Исчезнут очевидцы,
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться».
Это какой-то нравственный суд, или, быть может Божий суд. И видите, эти стихи Пастернака, они возникли буквально на исходе части.
И то же самое во второй части. Вот этот марш какой-то странный, как будто во сне прокрученный. Здесь даже есть гроздья гнева с очень коряво подтекстованными строчками (я думаю, что это надо менять, в таком виде нельзя исполнять, это даже произносить неудобно 41 41 31-я цифра – Д. Ш.
). Вся эта часть выражение гнева, вырвавшегося наружу. Понимаете, из самых глубин души. Ярость! Ярость! И я нашел здесь именно у Суркова, отнюдь не любимого мною поэта, но нашел наиболее адекватное тому, что искал:
«Могилам близких мы теряем счет,
Печаль стоит у каждого порога,
Разбит очаг,
Под пеплом кровь течет,
Приводит к мести каждая дорога».
Какая страшная правда в этих стихах. Но вторая строфа звучит хуже:
«Мы стали беспощадней и грубей, Полынной горечи хлебнув без меры»,
или совсем уже страшные слова:
«Во имя жизни заповедь: Убей!
Мы приняли, как первый символ веры».
Читать дальше








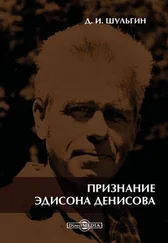
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/390494/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si-thumb.webp)