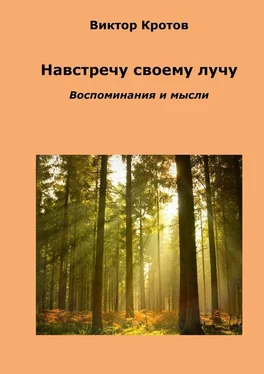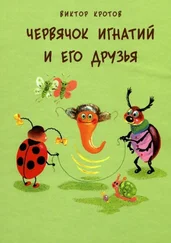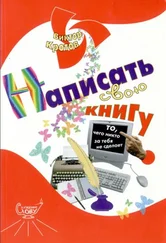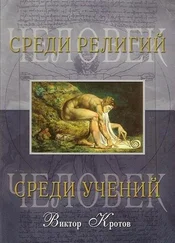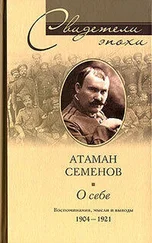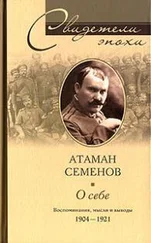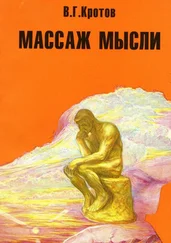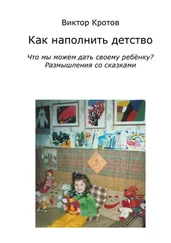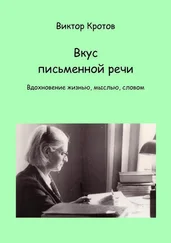Был у нас и свой школьный КВН. Остроумия на нём хватало, и оно высоко ценилось членами жюри. Как и оригинальность мышления вообще.
Запомнился один конкурс, в котором двум представителям команд дали задание: съесть по большущему яблоку, кто быстрее. Представитель соперников принялся уплетать своё яблоко с невероятной скоростью. Казалось, его победа неизбежна. Но наш Андрей Соловской быстро обгрыз яблоко, проделав узенькую дорожку «по экватору», и положил его на стол жюри со словами:
– Огрызков не ем!
Соперник замер с набитым ртом. Зал аплодировал и хохотал. Этот конкурс мы выиграли, не говоря о дополнительных очках за остроумие.
Мы были вторыми, кому предстояло учиться лишний год. Лишним он представлялся потому, что до этого была десятилетка.
В удлинении учёбы, объективно говоря, было кое-что положительное. Школьная программа стала менее спрессованной, появилось время для углублённого преподавания, и мы почувствовали это, прежде всего, на своём профильном предмете – математике. Но в принципе неправильно построенная система обучения (без предварительной ориентации в приоритетах) всегда останется тришкиным кафтаном: как ни удлиняй в одном месте, будет жать в другом.
Психологически же необходимость учиться дополнительный год (отсчитывая от привычных десяти) всех нас в той или иной степени удручала. Особенно мальчиков, которым грозила армия при неудаче поступить в институт сразу после школы. При десятилетке обычно удавалось попытаться ещё раз на следующее лето.
Особенно обеспокоились самые способные, которым важно было поступить не куда-нибудь, а туда, куда хотелось.
Петя Оренштейн добился разрешения сдать экзамены за десятый класс и после девятого сразу учиться в одиннадцатом. Ему взялся помогать в подготовке Кирюша Андреев, и они с этим справились.
Юра Портнов перешёл в вечернюю школу, в которой десятилетка ещё сохранилась.
Женя Музылёв сдал какие-то особые досрочные экзамены на физфак МГУ и тоже обошёлся без одиннадцатого года.
Я даже не думал ни о чём таком, решив, как и большинство одноклассников, что предприму две попытки поступления за одно лето: сначала в МГУ (там экзамены раньше), а если не наберу проходной балл (он был на мехмате высоким), то пойду в какой-нибудь технический вуз.
Лично мне повезло с введением одиннадцатилетки: дополнительный год учёбы продлил пребывание в пятьдесят второй, в нашем необычном классе.
Когда я уже работал над книгой, но ещё не дошёл до этой главы, мне пришла по электронной почте фотография нашего выпуска, где возле каждого человека стоял номер. Меня просили указать для сайта школы имена и фамилии. Разве это возможно: сорок четыре года спустя вспомнить всех ? Оказалось – да.
Номера не стояли только возле трёх людей. Это были портреты Чехова, Маяковского и Николая Островского, под которыми выстроился тремя ярусами наш одиннадцатый «А», а на стульях сидели педагоги. Так фотографировали все выпускные классы нашей школы, под одними и теми же портретами.
Кроме тех, о ком я уже писал, на этом фото сидят физик Гусаим, прихрамывающий и невозмутимый, обществовед Юсеич 112 112 Власов Юрий Алексеевич.
мягкий и вяловатый. Выше – между учителями и классиками – наш класс.
Первый ряд девушек окаймляют ребята: Боря Пигарев (наверное, он один стал учителем) и Женя Махалов (единственный, кто ушёл в искусствоведение). Застенчивая, даже при ответах у доски, Наташа Бочарова. Уехавшая в Америку Алла Кривошеина 113 113 С ней мы несколько раз в послешкольные времена общались по разным деловым поводам. В девяностые она уехала в США.
. Наташа Козлова, всегда бодрая и энергичная (она стала женой Вити Яковенко; увы, её уже нет в живых). А вот Витя почему-то на фото отсутствует, но он довольно рассеян, мог пропустить фотографирование.
И снова ряд девушек. Галя Агешина с самой длинной в классе косой. Таня Безрученко 114 114 Мы сдружились с ней не в школе, а позже, на мехмате. Дружим и до сих пор, хоть и общаемся редко.
– главный инициатор встреч класса после окончания школы. Гордо поднявшая голову (почти как Левитас) Наташа Шагурина, а рядом – её приятельница: Наташа Толчинская и острая на язычок Маша Попова. Две подружки, две Лены, Копцева и Соболева, всегда сидевшие за одной партой. И ещё одна Лена – Белкина, у которой однажды мы встречались классом.
Не всех упоминаю, чтобы не уподоблять эту главку протокольному отчёту. Да и пишу лишь о первых ассоциациях, иногда поверхностных, лишь обозначая дверцы памяти, уводящие от этой фотографии в воспоминания. Эх, не написал я в своё время повесть о девятом «А», теперь уже не получится.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу