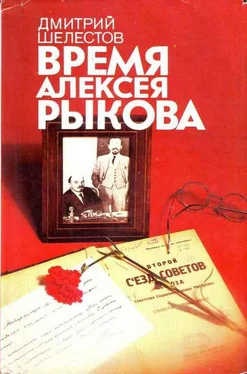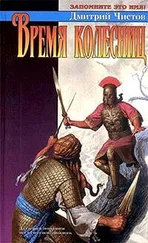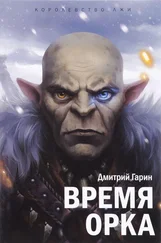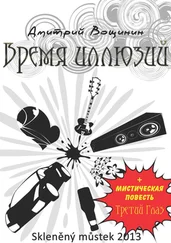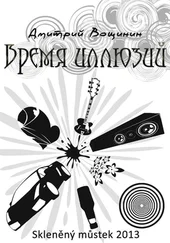Из них 14 человек вскоре были репрессированы, в том числе Икрамов, который через год оказался на той же скамье подсудимых, что и Бухарин с Рыковым. Кроме того, был расстрелян Ежов, а после смерти Сталина ещё два члена комиссии — Берия и Багиров.
Как видно из факсимиле черновика протокола заседания комиссии (см.: «Известия ЦК КПСС», 1989, № 5, с. 82), Сталин вначале, очевидно, предложил «…суду не предавать, а выслать* [курсив мой. — Д.Ш.]. Затем это слово было зачёркнуто, и вместо него появилась приведенная выше формулировка. Что это? Очередная «маленькая» хитрость Сталина? Его комбинаторский ход? Ответа на эти вопросы нет. Но сама правка заслуживает внимания.
В 1937 году была отправлена в ссылку и сестра Рыкова — Фаина Ивановна (которой он когда-то посылал шутливые открытки из Парижа, подписываясь «Аля»), а её муж В.И. Николаевский расстрелян. Погиб, арестованный в 1937 году, брат Н.С. Рыковой — Ф.С. Маршак, большевик с 1917 года, инженер-химик. Их сестра Е.С. Толмачева оказалась в 1948 году в ссылке вместе с племянницей Наталией Алексеевной, вышедшей к тому времени замуж за В.Г. Перли, эстонца, оказавшегося воркутинским узником, а затем ссыльным. Полностью реабилитированный, Вальтер Густавович, здоровье которого было подорвано в приполярных шахтах, скончался в 1961 году, вскоре после того, как он и Наталия Алексеевна получили возможность жить в Москве.
Что касается правительства РСФСР, то им после В.И. Ленина (1917–1924) и А.И. Рыкова (1924–1929) руководили, как отмечалось, С.И. Сырцов (1929–1930), Д.Е. Сулимов (1930–1937) и Н.А. Булганин (с 1937), а затем — В.В. Вахрушев (1939–1940), И.С. Хохлов (1940–1943), А.Н. Косыгин (1943–1946), М.И. Родионов (1946–1949), Б.Н. Черноусое (1949–1952), А.М. Пузанов (1952–1956), М.А. Яснов (1956–1957), Ф.Р. Козлов (1957–1958), Д.С. Полянский (1958–1962), Г.И. Воронов (1962–1971), М.С. Соломенцев (1971–1983), В.И. Воротников (1983–1988), А.В. Власов (с 1988).)
Воспользуемся ещё одним писательским наблюдением, относящимся, что в данном случае важно, к 1930 году. Во время одного из своих приездов в Москву Михаил Пришвин, проходя мимо универмага «Мосторг», обратил внимание на конную фуру, привезшую товар, из которой неслась ругань. Писатель заглянул в сучок её боковой доски, «чтобы увидеть, какие же это были товары, и увидел множество бронзовых голов Ленина, по которым рабочий взбирался наверх и проваливался. Это были те самые головы, которые стоят в каждом волисполкоме, их отливают в Москве и тысячами рассылают по стране. Выйдя на Кузнецкий, сжатый плотной толпой, — завершает Пришвин эту свою дневниковую запись, — я думал про себя: «В каком отношении живая голова Ленина находится к этим медно-болванным, что бы он подумал, если бы при жизни его пророческим видением предстала подвода с сотней медно-болванных его голов, по которым ходит рабочий и ругается на кого-то матерными словами».