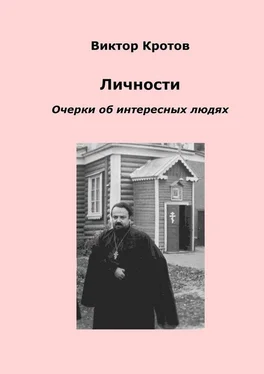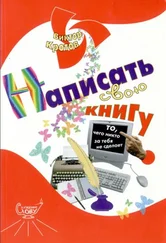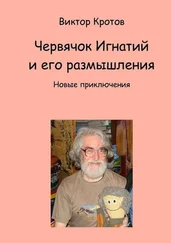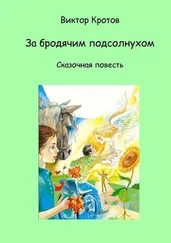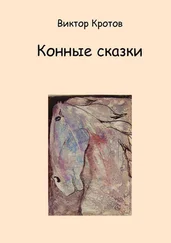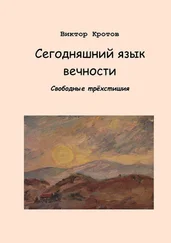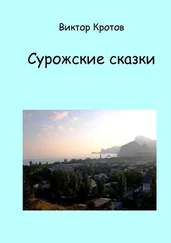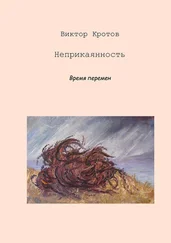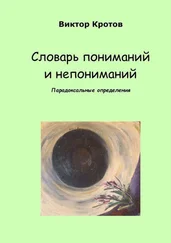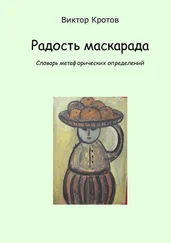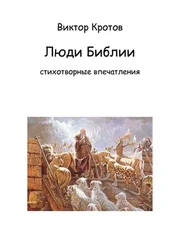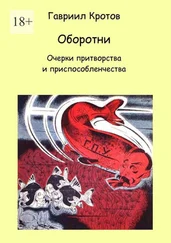О священстве отец Александр говорил так: «Когда меня рукополагали в священники, епископ возложил мне руки на голову. И ему епископ возложил когда-то руки на голову. И эта живая цепочка тянется сквозь века. И восходит к Иисусу Христу, благословившему на служение апостолов. Разве я могу не ощущать каждое мгновение эту живую цепочку?..»
Книги отца Александра становятся всё более известны, и его писательская слава может заслонить собой его священническую деятельность. Но он был прежде всего именно священником. Дело не только в огромном количестве его духовных детей, превративших храм Сретенья в Новой Деревне в один из духовных центров просыпающейся России. Дело не только в хорошо известных именах. Дело в том, что он никогда никому не отказывал в духовной помощи, будь то посещение больного в приходе (к которому следует отнести, может быть, и особую, «новодеревенскую» Москву, разбросанную по всей географической Москве) или разговор о смысле жизни с тем, кто не мог сам освободиться от болезненного безверия – десятилетиями насаждаемой болезни.
Священник из «Силы и славы» прячется и боится быть пойманным. Но он не может перестать быть священником. Паства его, лишённая прежних духовных водителей (кто казнён, кто эмигрировал, кто боится вспомнить о своём священническом прошлом), ширится необычайно. Всюду множество людей нуждаются в нём, и некуда ему деваться от этой нужды.
Но безликая маска революционного правосознания тоже находит в романе свою персонификацию. Не помню, назывался ли он у Грина комиссаром, но мне подворачивается именно это слово. Комиссар этот выразительнее всего виден в небольшом эпизоде, когда он идёт по вечерней улице и замечает стайку детей. Те с восхищением смотрят на кожанку и портупею, а комиссар удовлетворённо думает, что вот эти ребята – те, ради кого и происходит великая революционная деятельность, что это завтрашний день новой страны. И подзывает одного из мальчишек, чтобы показать ему маузер, или что там у него имелось в портупее. Полон душевного расположения, комиссар протягивает руку – погладить мальчика по голове. Но рука его, привыкшая не к ласке, а к истязанию, обычным движением хватает мальчика за ухо и выворачивает до жгучей боли. Мальчик, рыдая, убегает, а комиссар слегка досадует на себя или на свою руку, но это скоро проходит. Этот комиссар и возглавляет поиски катакомбного священника.
Отцу Александру, как любой яркой личности, тоже хватало преследователей. Они проявлялись в разных обличьях. Это мог быть и настоятель храма, приставленный «держать и не пущать». Могла быть староста церковной общины. Могли быть сексоты, легко растворяющиеся в пёстром и широком кругу «своих» прихожан. И уж конечно – пресловутые органы , которые никогда не оставляли его своей бдительной опекой, которым был известен каждый его шаг и которым потом не по силам оказалось найти преступника. Самая характерная черта этого преследования – его полная, по сути, безликость. Да и комиссар в романе: персонификация безликости, без-личности.
И вот безличная система, сосредоточившаяся в безликом комиссаре, начинает сжимать свои клещи. Священника вытесняют из города. Он вынужден скрываться в селениях, всё более и более удаленных. Впрочем, скрываться у него получается лишь до определённой степени: ведь он священник. Он служит мессы, совершает таинства, открываясь любому энтузиасту-доносчику. Да и не просто энтузиасту. За поимку священника назначена награда, весьма весомая для нищих жителей этой несчастной страны. Объявление о награде висит в полицейском участке, рядом с таким же объявлением о розыске вооружённого убийцы.
Ощущение преследования разрастается в романе до мистической фантасмагории – и кому, как не нам, жившим при советской власти, ощутить реалистичность этой фантасмагории.
Священнику удаётся ускользать и спасаться, порою чудом, но не удаётся освободиться от сжимающегося кольца. Никто не берёт на душу иудин грех, кроме одного жалкого метиса, жадного до награды. Что ж, достаточно и одного иуды… Пока у него не получается. Но по ходу повествования то и дело возникает мрачный символ: грифы, терпеливо дожидающиеся своей поживы.
По ходу действия мы многое узнаём о главном герое. Грин нарочито остро высвечивает его человеческие слабости. Священник оказывается выпивохой, а в одном из селений он встречает женщину, которая несколько лет назад родила от него ребёнка. Он мучается своим несовершенством – и более всего страдает из-за той тени, которая падает от его человеческой натуры на его священство. И всё же он нащупывает в своей душе ту тонкую, но точную границу, которая отделяет одно от другого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу