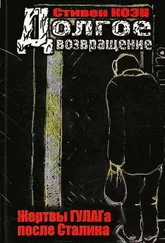— Я, как видно, немного перепутал, — сказал Гусатинский. — Давайте-ка вскроем пол в столовой.
Вскрыли и в столовой, и не нашли ничего также и там.
К вечеру расковыряли всю квартиру — безуспешно.
— Теперь вы, гражданин следователь, так же как и я знаете, что у меня ничего нет, — сказал Гусатинский. — И теперь можете в меня стрелять, вешать меня, резать на куски — я немного отдохнул и выспался.
Гусатинского увезли обратно в Днепропетровскую тюрьму, но некоторое время спустя выпустили. Вторично его арестовали в начале 1938 года, и он погиб в лагерях.
Жить с ребенком в одной комнатенке Цыганского уголка нам было тесно, и мы решили перебраться на другую квартиру. Союз писателей как раз строил «писательский» дом в бывшем Нащокинском переулке, недавно переименованном в улицу Фурманова. Маркиш мог купить там квартиру.
Писательский дом представлял собой трехэтажную надстройку над двумя соседними двухэтажными домами. Место было хорошее, тихое. Одним своим концом переулок уходил к Арбату, другим упирался в Гагаринский переулок. И сами отдельные квартиры, и прекрасное место вызвали среди писателей большой ажиотаж: пролетарским писателям надоело ютиться в «коммуналках», а то и снимать углы. А разжиться «жилплощадью» в Москве было куда как непросто…
Квартиры на Нащокинском продавались с учетом заслуг, положения, знакомств и Бог знает чего еще. В числе наших соседей оказался Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Всеволод Иванов, Матэ Залка, Илья Ильф с Евгением Петровым, Константин Финн, начинающий Евгений Габрилович и уже довольно известный Виктор Шкловский. Поселились там и еврейские писатели: поэт Самуил Галкин, Исаак Нусинов — наш сосед по Ворзелю. И — совсем уж непонятно, с какой стати — въехал в роскошную квартиру нашего дома американский корреспондент Генри Шапиро.
Предоставив мне заниматься устройством, Маркиш назавтра же после переезда сел работать. Его ничуть не интересовало, кто живет с ним на одной лестничной площадке. Сама идея «писательского» дома была ему безразлична: есть стены, пол и потолок, и это основное. Его не угнетало, как некоторых, что сверху, снизу и по сторонам сидят за столами писатели и пишут, пишут, пишут. Или не пишут. Это его не касалось. Новоселье он, естественно, устраивать не стал.
Вскоре после переезда на новое место нас пригласил к себе Всеволод Иванов. Он прислал нам записку, в которой писал, что собираются у него участники проведенного недавно на Украине пленума правления Союза Писателей, посвященного памяти Тараса Шевченко. Маркиш был на этом пленуме и по приезде рассказывал мне об Иванове, как о приятном, умном человеке. Ставил он мне в пример и жену Иванова — Тамару. То была очень красивая, очень статная женщина, бывшая актриса театра Мейерхольда, женщина широких и свободных взглядов, с собственным мнением, умная и с мощным чувством собственного достоинства. Записка Иванова была составлена несколько «по-старомодному», и я именовалась в ней «супругой» Маркиша. В те времена такие слова были не в ходу, они говорили о позиции их автора.
Литературное положение Всеволода Иванова было в ту пору двусмысленным. На его беду ранние его, «сибирские» рассказы понравились Сталину. Рассказы те были жестокими, кровавыми — как правда Сибири тех лет — и, быть может, пришлись по душе Сталину именно по причине своей жестокости и оголенности. Сталин следил за публикациями молодого сибиряка, за его движением в литературе. Однажды он затребовал из редакции толстого московского журнала гранки ивановской повести. Повесть понравилась Сталину, он захотел написать к ней предисловие. Кто-то из сталинского окружения, предвидя резкий взлет ивановской карьеры, позвонил писателю и сообщил ему о том, что Сталин собирается писать предисловие к повести. Иванов, однако, принял новость весьма холодно. Он сказал своему телефонному кремлевскому собеседнику, что не видит никакой необходимости в предисловии политического деятеля, предпочитая ему предисловие писателя или литературоведа… Немедленно вслед за тем повесть была из журнала выброшена. До конца его дней — а он пережил Сталина и умер в 1963 году — на Иванове осталось несмываемое пятно неповиновения и «строптивости» в глазах литературно-политических вождей. Несколько его романов так и лежат в его архиве неопубликованными. Во все времена он оставался человеком независимым и прямым, хотя, зная отлично, где и в какое время он живет, избегал полемики и открытых высказываний.
Читать дальше