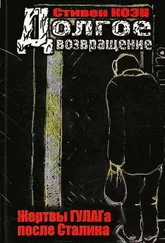Сергей Иванов занимал одну из четырех квартир собственного дома. То был человек неистребимый, как шарик ртути, и тяжелый, как ртуть. Спасшись от расстрела продразверстки, не истлев от голода в год поволжского мора, уйдя от сибирской кулацкой судьбы, выжив во всех этих вулканических ситуациях — он ненавидел советскую власть грозной ненавистью. Его жизнь — как и жизнь миллионов таких, как он — перестала быть жизнью и превратилась в выживание.
Иванов сильно пил и избивал тихую жену, а в часы трезвости приходил побеседовать с моим отцом. Его поражало отношение моих родителей к нашей домработнице, деревенской девушке Саше. Саша была, в сущности, преданным членом нашей семьи, и это поражало и возмущало Иванова.
— Досыта не корми, долго не держи! — поучал Иванов моего отца. — А то ведь если по-хорошему, вот какой бардак получается! — и Иванов поводил рукой вокруг себя, охватывая свой собственный дом, Петровский парк, Москву за дворцом Петра, все пространство России до самого Тихого океана.
Соседями нашими были супруги Соловьевы с сыном. Обрусевшие евреи Соловьевы приехали в Москву из Казани с самыми благими намерениями: работать на благо победившего народа, учить сына, жить по-человечески. Судьба их сложилась банально: инженер Соловьев был арестован в 37 году по сфабрикованному доносу и погиб (при этом ему вменялось в вину сокрытие истинной национальности), сын погиб на войне. Жена «изменника» Соловьева, врач-педиатр Фаина, не могла рассчитывать на хорошую работу, а потому официально оформив развод с «недостойным» супругом (тайно она носила ему на Лубянку, пока принимали, денежные передачи), устроилась по советским понятиям весьма удачно — заведующей детским садом. С работы она возвращалась нагруженная как вол: на плече сумка, в обеих руках «авоськи» с продуктами, которые не додавали детям…
Соседний с нами дом принадлежал бухарскому еврею Хахамову. В начале НЭПа он приехал в столицу из Бухары с грузом ковров и открыл ковровый магазин. Посидев в тюрьме еще в расцвет НЭПа, он вышел на свободу и на сохраненные в тайнике остатки денег построил дом для жильцов. Хахамов, перенявший черты характера восточных людей, был фаталистом, жил, что называется, «по течению». Этим же «течением» его и «смыло» в 37 году — он был вторично арестован и погиб неведомо где, а семья развалилась, разбрелась по городам и весям необъятной России.
Цыгане, жившие табором, являли наиболее красочную часть населения Петровского парка.
Цыгане были самые настоящие — с лошадьми, повозками, шатрами, гадалками и гадателями, с громадной стаей грязных, голопузых ребятишек. Под разными предлогами и вовсе без предлогов они проникли в соседние с ними кварталы — но на свою таборную поляну не пускали никого. Советская власть решила сделать из них «оседлых граждан», и цыгане до поры, до времени терпели такое неестественное положение. Дети их азартно плясали за медяки на пыльных дорогах перед домами застройщиков, женщины в пестрых платьях предсказывали за умеренную плату прекрасное будущее и избавление от душевных травм. Цыганские мужики сидели целый день на земле, покуривая табачок и лудя медные котлы. Мне казалось, что жизнь табора на этом месте продолжится до тех пор, пока будут перелужены все котлы. А потом, в одно прекрасное утро, цыгане свернут свои шатры, погрузят пожитки в телеги и уйдут невесть куда…
Меня цыгане принимали за «свою», за цыганку. Этому способствовало два обстоятельства: я была по-восточному черна и хрупка и носила арабское вышитое платье, привезенное моей маме в подарок дядей Натаном из Палестины и перешедшее со временем ко мне.
Когда я проходила мимо цыганской поляны, цыганки обступали меня, спрашивая дружелюбно:
— Ты цыганка?
Я отрицательно мотала головой, убегала. Я боялась цыган, их дурной славы воров и мошенников. Теперь я жалею, что не узнала их тогда поближе: они, да еще, пожалуй, вымирающие от болезней и водки обитатели крайнего Русского Севера сохранили под советской властью нравственную свободу.
А цыганки, провожая меня взглядами, недоверчиво покачивали грязными головами: они упрямо считали, что я цыганка, только скрываю почему-то свое происхождение.
Улица, на которой мы жили, и соседние улицы носили какие-то официальные названия — я их не помню. Вся Москва называла наш район просто «Цыганский уголок». Потом когда цыгане, перелудив все котлы, ушли — название района и нашей улицы, на которой мы жили, осталось прежним. И даже теперь, когда ни цыган там нет, ни застройщицких домишек, а в асфальт вокруг метро «Аэропорт» врублены многоэтажные дома писательского кооператива — даже теперь старожилы зовут это место Цыганским уголком.
Читать дальше