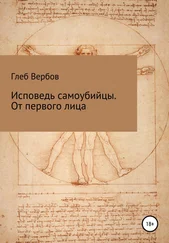Прежде чем перейти к рассказу о Смирне, в которой мы с Зиночкой наконец-то поженились, хочу сказать несколько слов о русских эмигрантах в Константинополе.
Эмигранты в то время были повсюду, от Парижа до Смирны, но константинопольские эмигранты сильно меня удивили своим бедственным положением. Если в Бухаресте или Париже большинство эмигрантов было хоть как-то устроено, то в Константинополе добрая половина нищих просила подаяния на русском языке. Некоторые, услышав русскую речь, подходили к нам не за подаянием, а за новостями. Вопросы у всех были одни и те же: «Откуда вы? Что слышно из России? Не думаете ли вернуться?» Мы с Зиночкой тогда не думали о возможности жизни в Советском Союзе, поскольку ее родная Рига и мой родной Кишинев находились за его пределами.
Тягостное впечатление производили константинопольские эмигранты. Мы сами тогда жили бедно, порой и впроголодь, но, глядя на них, чувствовали себя богачами.
После большого и шумного Константинополя Смирна показалась нам деревней. Некогда цветущая Смирна к 1926 году превратилась в захолустный город. Турки выжили оттуда греков, которых в Смирне всегда было много, они составляли здесь большинство населения. Вместе с греками город утратил свой европейский лоск. Шепотом нам рассказывали, что многих греков не изгнали из Смирны, а вырезали. Глядя на мирных улыбчивых турок невозможно было представить, что они способны на такие зверства. Впрочем, глядя на культурных немцев, тоже невозможно было представить, что настанет день — и эти люди превратятся в зверей. Мой кишиневский благодетель Иван Антонович говорил: «Во многих душах добро, что лед на реке, тонким слоем сверху лежит. А под ним — омут зла». Так оно и есть. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в этом.
Владелец ресторана в Смирне Ахмед-ага тоже был греком, который ради того, чтобы сохранить свое имущество (а возможно, и жизнь), перешел в магометанскую веру. Переход этот был притворным, по существу сугубо деловым. Магометанские обычаи Ахмед-ага соблюдал только на людях. В нашем кругу он преспокойно пил вино, которое для магометан было запретным. Многие греки так поступали, меняли веру ради того, чтобы не лишаться всего, что у них было, самой жизни. На самом деле Ахмеда-агу звали Атанасом. Это был большой, веселый, добродушный человек. Но за его добродушием крылась восточная хитрость — хоть на грош, да надуть ближнего своего. Надуть не так, как надувают в Европе, а на восточный манер, с улыбкой, комплиментами, дружеским похлопыванием по плечу. Опыт общения с Ахмедом-агой сильно пригодился мне, когда мы покинули труппу и я стал заключать контракты самостоятельно.
Жизнь в Смирне была скучной, но зато очень дешевой. Невероятно дешевой. В сравнении с Парижем еда и жилье стоили здесь гроши. На те деньги, которые в Париже оставишь за завтрак в кафе, в Смирне можно было обедать неделю. Большая, хорошо обставленная комната обходилась нам с Зиночкой втрое дешевле, чем убогая парижская комнатка на чердаке.
Смирна дорога мне тем, что там произошло одно из самых радостных событий в моей жизни. Даже сейчас, после всего того, что было между мной и Зиночкой, я с удовольствием вспоминаю тот июльский день 1926 года, когда мы стали мужем и женой. После нашего бракосочетания у меня словно камень с души свалился. Я все время боялся, что Зиночка передумает. Недоумевал — ну что же она так тянет? Разве она не видит, как сильно я ее люблю? Или сама она только делает вид, что любит? Если я спрашивал о причине трехмесячной проволочки, Зиночка отвечала одно и то же: «Я хочу лучше тебя узнать».
Венчаться мы не стали, отложили на потом, да так и не обвенчались. В Смирне не было православного храма. Зиночка собиралась было перейти из лютеранства в православие для того, чтобы обвенчаться со мной, но так и не перешла. (Венчался я с Верочкой в 1945 году.)
Свадьбу мы с Зиночкой праздновали в ресторане Ахмеда-аги, который уверял, что по дружбе сделал нам большую, прямо-таки огромную скидку. Впоследствии я узнал, что в другом ресторане свадьба обошлась бы мне гораздо дешевле без каких-либо скидок, а с ними — так и вдвое. Сам виноват. Нигде, особенно на Востоке, нельзя бить по рукам, не зная точно, что почем.
В Смирне мне часто приходили на ум грустные мысли. Приходили, несмотря на то что в целом я в то время чувствовал себя счастливым. Рядом со мной была Зиночка, которая только что стала моей женой. Мы мечтали о ребенке и уже договорились о том, что мальчика мы назовем Игорем, а девочку — Ольгой. Грусть моя была вызвана тем, что, дожив до двадцати восьми лет, я продолжал оставаться никому не известным артистом, артистом без имени. А мне хотелось, чтобы мое имя гремело на весь мир. Хотелось быть знаменитым, богатым. Хотелось иметь возможность дать Зиночке все, что она пожелает, чтобы ей не приходилось каждый день по нескольку раз выходить на сцену. Я с детства знал, что у меня есть талант. Мне говорили об этом в разное время совершенно разные люди. Но какой прок мне от таланта, если он никак не помогает мне выделиться из толпы? В чем дело? Что я делаю не так? Я же стараюсь, причем изо всех сил… Снова начали посещать меня мысли о моей невезучести.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
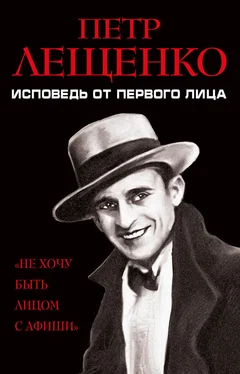
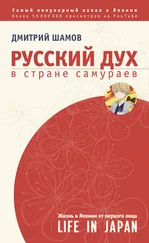

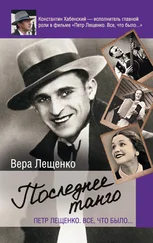
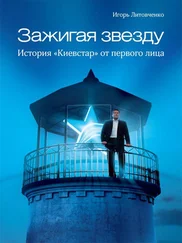

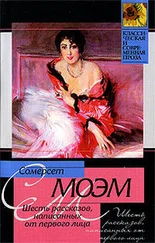

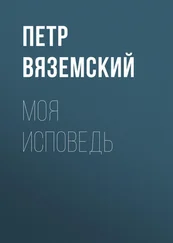
![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)