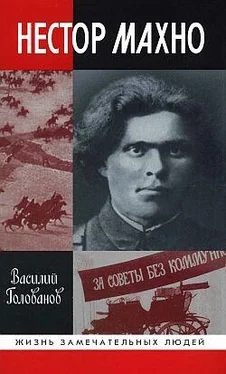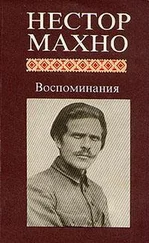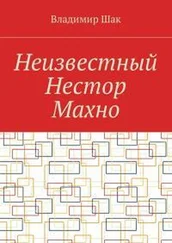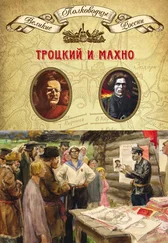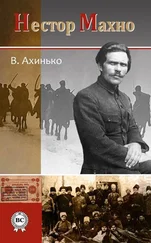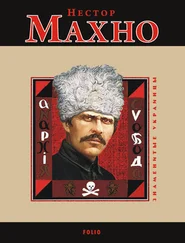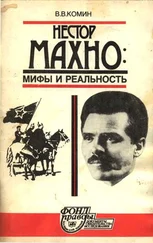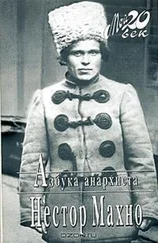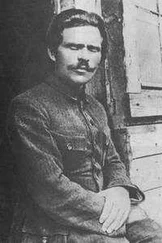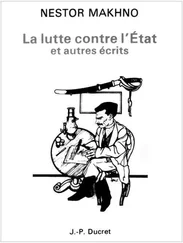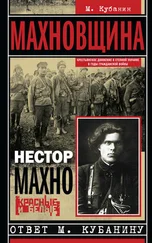Анархизм, оказавшись в центре внимания этой книги, ставит нас перед проблемой свободы. По крайней мере, в том виде, в котором она существовала в первой трети прошлого века. Может показаться, что битва за свободу проиграна. Найдется предостаточно аргументов в пользу того, что мы движемся к полностью несвободному обществу, где тотальное управление людьми будет осуществляться с помощью денег, внушенных страхов и смыслов, навязанных рекламой и пропагандой.
И тем не менее проблема свободы возникает вновь.
Она возникает, несмотря ни на что.
И это оставляет нам надежду. Сейчас я говорю уже не об анархической свободе и вообще не о политической свободе, а о свободе, как о величайшей загадке, стоящей и перед каждым из нас в отдельности и перед всем человечеством. Окажется ли каждый из нас способен так сражаться за свою свободу, как сражался когда-то Махно? Хотелось бы верить.
По-моему, символично, что в кружках «анархистов-мистиков», действовавших в 1920-е годы при музее П. А. Кропоткина в Москве (а в 1930-е – подпольно, в связи с арестом руководителей), был молодой анархист из Гуляй-Поля, учитель Игорь Брешков.
Каким-то образом батькина «воля» отозвалась в душе его односельчанина поисками духовной свободы. Руководители кружков А. А. Солонович и Н. И. Преферансов считали, что революция бессмысленна без духовного преображения человека. «Мистики» были связаны с древней эзотерической традицией мистических орденов Европы, изучали восточную мудрость, вопросы искусства… Против них ополчились анархисты-практики, в том числе и аршиновское «Дело труда». Но вдова Кропоткина, Софья Григорьевна, и старая народоволка Вера Фигнер признали в них продолжателей дела князя-бунтовщика. Они понимали, что дело отнюдь не в «мистицизме». Вера Николаевна Фигнер просидела в Шлиссельбурге двадцать лет и знала, о чем идет речь: дух ищет свободы. А она знала, что такое свобода после двадцати лет заточения! После двадцати лет окружающего ее отчаяния, попыток самоубийства, самосожжений, сумасшествий – она знала, что в конечном счете важным является только одно: свобода внутренняя, над которой не властны даже стены тюрьмы, – а не то, кем человек числит себя и с какою яростью клеймит противников… Она понимала, как понимали и руководители кружка, что большинство его участников при существующем режиме обречены. Об этом предупреждали всех вступающих. Она понимала, что ее, как реликт русской революции, не посмеют тронуть, и до поры прикрывала своим авторитетом крохотный островок свободомыслия… Она понимала также и то, что многие молодые люди, собирающиеся в помещении кропоткинского музея, не выдержат удара власти. Кто-то погибнет. Кто-то совершит предательство. Но кто-то достигнет успокоения человека, приговоренного к свободе. У свободы нет других путей от рождества Христова.
И есть высшая свобода – чистота сердца и мир его. И есть семь господств гнева: тьма, вожделение, лукавство плоти, яростная мудрость… И последняя всего опаснее, ибо сказано:
Мир вам! Мир мой,
Приобретайте его себе! Берегитесь, как бы
Кто-нибудь не ввел вас в заблуждение, говоря:
«Вот сюда!» или «Вот туда!»
Ибо Сын человека
внутри вас. Следуйте
за ним! Кто ищет его,
найдут его… (20, 325).
Читателю может показаться, что мы отошли слишком далеко от темы: Махно и мистический анархизм как будто никак не связаны. Сам он понять нового «интеллигентного» течения, конечно, не мог бы и, вероятно, испытал бы смутную враждебность к его приверженцам. Но существует Игорь Брешков, 1913 года рождения, которого детские воспоминания о черных знаменах махновщины привели на конспиративные квартиры последних анархистов в Москве. Он не был близок руководителям кружка и не входил в круг посвященных; легенды, которые многовековая традиция мистических орденов требовала передавать только изустно, – не были поведаны ему. Но вольнослушателю кружка Брешкову все же вменялось в вину слушание «стихов анархического содержания» поэта М. Волошина – значит, стихи, по крайней мере, он слышал? И, следовательно, живым, неоскверненным воздухом дышал?
Значит, дышал.
Нет, Брешков не повинен в том, что он остался всего лишь начинающим учеником свободы. В первый раз он был арестован в 1932 году, вторично – в 1936-м. На следствии давал сдержанные показания, но, в общем, держался неплохо. Отсидел свой срок. Работал по реабилитации библиотекарем. Сын его не зарядился от отца энергией бунта против закабаленное™, которая одних толкает на мятеж, а других – на великое подвижничество. В нем, следовательно, магнетизм махновщины иссяк. Но он обнаруживается вдруг в других людях, вступивших на тропы свободы, ибо бунт против несправедливости – первая и необходимая ступень в борьбе за нее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу