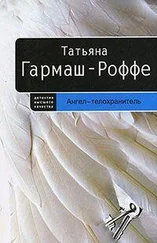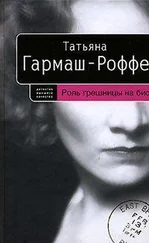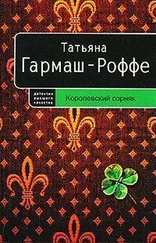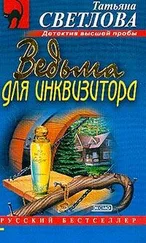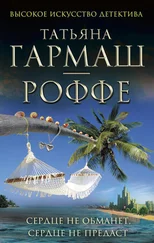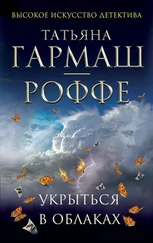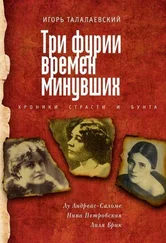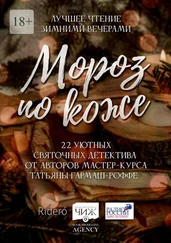Но молитва, как производная пережитого религиозного экстаза, предполагает сама по себе существование в нас на грани выносимости внутренней скорби, внутреннего ликования, уязвимости и благоговения. И когда на этой высоте молитва становится поэзией, непроизвольным актом творчества, брызжущей через край силой экспрессии, в самой глубине души человека происходит нечто парадоксальное: причина и следствие меняются местами. Это значит, что словесная формула, которая всегда вторична, перестает соответствовать пережитому опыту и преобразует содержащиеся в ней чувства облегчения и освобождения — во вдохновение и цель, которые уже не служат друг другу.
Эта склонность Райнера поразительно ярко проявилась с самого начала работы над "Часословом" во время первого путешествия в Россию, но истинная проблема со всей определенностью встала только во время нашего второго приезда, во время наших странствий и встреч — тогда-то Райнер и смог беспрепятственно уйти с головой в свои впечатления о "его" России. Впоследствии он горько сожалел, что глубина этих впечатлений почти не оттенялась огромным количеством молитв, но это оттого, что он их переживал: молитва и ее словесное воплощение наслаивались друг на друга как единственная неразделимая реальность, что обрела законченную форму; и то, что начало исчезать — частично или полностью — на уровне художественного произведения, с небывалой силой проявлялось в самом Райнере, в том невероятном зрелище, которое в определенные моменты разворачивал перед нами его внутренний мир. И тем не менее он постоянно замыкался в ожидании и тревожных поисках наивысших форм выразительности, которая смогла бы подчеркнуть изреченное слово, придав ему самодостаточность. Он буквально разрывался между нетерпеливым желанием, незримо присутствующим в его словах, его символах, — желанием упасть на колени перед каждым из своих ощущений, чтобы излить себя в поэтических формулах, — и желанием противоположным — не впустить в молитвенную тишину своей души творческий порыв. А стало быть он часто оказывался в неизменном положении узника тюрьмы безмолвного внимания и од-новременно в положении пассажира, сидящего у окна скорого поезда, проносящегося без остановок мимо городов, деревень, пейзажей и картин, к которым он никогда не сможет вернуться. Спустя годы он станет говорить как о чем-то непоправимом о провалах в памяти, оставленных временем, сравнивая их с тем, что случается с воспоминаниями о раннем детстве, и читать стихи своим низким, спокойным голосом:
Пусть он заново познает свое детство,
несмышленое и полное чудес,
и бесконечно мрачные легенды
тех первых лет, полных обещаний.
С этим было связано тайное желание "вернуть свое детство", страстное желание видеть, как оно всплывает в памяти, подобно видению, хотя поток этих воспоминаний и заставлял его пятиться в ужасе. Но стоило только преодолеть эту дрожь, предваряющую всякое движение вглубь, — и вот перед ним его раннее детство, пронизанное тем изначальным чувством без-опасности, которое не нуждается ни в каких страховках и гарантиях. Именно это ощущение, и только оно, вызвало тот заряд свободы в книге, которую ему предстояло написать.
Я верю во все то, что еще не сказано.
Я хочу выпустить на волю свои самые
благие вспышки.
Однажды я, сам того не желая, сделаю то,
чего еще никто не дерзнул желать.
И да простит меня Бог, если это высокомерие
................................................................................
И если это гордость, дай мне быть гордым,
произнося молитву.
Даже если всякий творческий процесс порождает дух соперничества между человеком и творцом в человеке — пусть даже мы знаем, сколько в нем от первого и сколько от второго, — Райнер считал, что предметом его искусства был Бог сам по себе, Бог, подающий знаки о своем отношении к тайникам его жизни, ко всему самому безымянному, лежащему по ту сторону осознания своего "я". Его миссия — художника, творца — проникнуть невыносимо глубоко, затронуть все самое человечное, всю слабость, туда, где эта миссия может потерпеть фиаско, где спрятано то, чья суть совпадает с Объектом его творчества.
Так мы можем понять отчаянье Райнера как его фатальную черту: не как простое беспокойство ранимой души из-за потерь и утрат, сопровождающих любую жизнь, не как тоску всех мало-мальски артистических натур из-за временного угасания их творческой силы, которой невозможно приказать, а как абсолютноеотчаяние существа, поглощенного бездной, в которой также исчезло то, что, не будучи частью нас, руководит нами и всем остальным.
Читать дальше