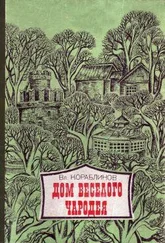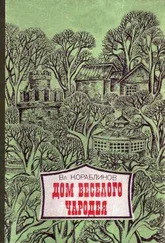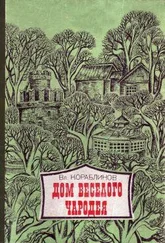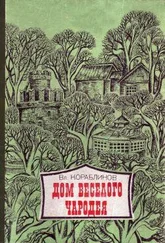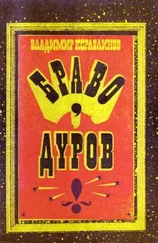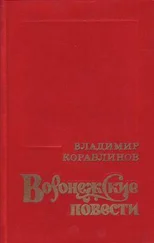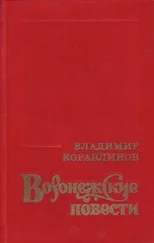Особенно страшна была семинария для тех, кому приходилось весь учебный год жить в ее стенах, «на казенном коште», как это называлось. Всю мерзость семинарского обихода они испытывали на себе; все чистое, доброе, что еще оставалась в них, захлестывалось беспощадной удавкой семинарского бытия. Своекоштным, то есть тем, кто жил дома или на квартире, дышалось свободнее.
Никитин числился в своекоштных. Но вряд ли намного легче жилось ему в родительском доме. Быстро промелькнувшая пора далекого детства – вот, кажется, единственная светлая страница его жизни. Она мерцала, как узенькая ясная полоска рассветного неба в начале долгого ненастного дня. От этой поры осталось в памяти немного: зимний вечер, вьюга за окном, мигающий язычок свечи… нянькино полусонное бормотанье, бесконечная сказка про серого волка, про птицу-жар, про девицу-раскрасавицу Милитрису Кирбитьевну: «…и вот, стал быть, сударик мой, батюшка, ударился он о сыру землю да исделался уж такой-то молодец…» Или еще: летнее вечернее небо, где одна за другой зажигаются звездочки, и опять-таки – сказки, сказки… Но это уже о разбойниках, о мертвецах. Старик Кочетков, ночной сторож при отцовском заводе, великий был мастер сказывать страшное.
Но погасла рассветная зорька младенчества и наступил серый день, беспросветный, переходящий в ночь так незаметно, так сливающийся с ней, что как бы одна бесконечная ночь настала в жизни Ивана Савича.
Началом этой длинной ночи была бурса. Она в те годы еще при монастыре ютилась, один вид ее чего стоил: тюрьма и тюрьма. Толстые облупленные кирпичные стены, узенькие, забранные чугунными решетками окна, не окна, скорее – бойницы; а внутри сводчатые низенькие казематы – классы, вечные сумерки, холодище, кислый смрад и огромные тощие, злые крысы, вкупе с отцом экономом и поваром уничтожающие без того скудный бурсацкий провиант.
Учиться Никитину было легко; мальчик прилежный, любознательный, он в духовном училище все шесть классов шел в первом разряде, табель пестрел отметками «изрядно» и «весьма изрядно». Науки давались без труда, он все запоминал с лету, особенно из истории и географии. С арифметикой было труднее, ее он побеждал не быстротою разума, но прилежанием. В задачках его прежде всего занимали не вычисления, а смысл того, что происходит: ямщики скачут навстречу друг другу, купцы из Кяхты в цибиках чай везут, по трубам вода течет в бассейн. И он живо воображал пьяных краснорожих ямщиков, гордый бег коренника и как пристяжки воротят шеи в стороны, а пыль вьется за почтовой тележкой и долго в жарком степном мареве висит серым облачком над большаком… Верблюды, нагруженные тюками, бредут по пескам, везут чай… А вдруг – разбойники? Выхвачены кинжалы, гремит стрельба, кто-то стонет, сраженный разбойничьей пулей… Страшно! В бассейне вода стоячая, зеленая, чуть колеблется в двух местах затем, что глубоко на дне – две трубы, из которых день и ночь все льется, все льется, день и ночь… день и ночь…
Но почему-то надобно подсчитывать – когда встретятся ямщики, да сколько цибиков чаю везут, да когда бассейн наполнится до краев. А это уже было скучно, об этом и думать не хотелось. В истории и географии воображение помогало: как наяву, виделись дивные пальмы, голубой океан, беломраморные дворцы, пираты, хлопающие парусами корабли, рычащие львы… Или закованные в железо рыцари, башни замков, Роландов рог в Ронсевальском ущелье… За Роланда и пальмы южных морей в кондуите ставили «весьма изрядно», за ямщиков и цибики – «удовлетворительно» и даже «не совсем удовлетворительно».
На шестнадцатом году у Ивана Савича зачернел пушок над губой, мальчишеский голос давал баском петуха, но детство беспечное все еще помнилась, улыбалось издалека. Нянькины сказки сменились чтением романов Вальтера Скотта и мадам Радклиф, чтением увлеченным, допоздна, далеко за полночь; отец ворчал: «Свечей на тебя, стюдент, не наготовишься…», но ворчал добродушно и даже не без гордости втайне за приверженность сына к книге.
Когда весной 1839 года Иван Савич принес табель об окончании училища, где почти все стояли отличные отметки, Савва усмехнулся, довольный: «Ну, братец, утешил! Ей-право, утешил… Молодца!» И так хватил сына по плечу, что другой бы на ногах не устоял, а Иван Савич – ничего, не поморщился, не сморгнул. Отец сказал: «Ого! Одначе ты не токмо в науках силен…» В этот день старик подарил Ивану Савичу охотничье ружье. Он его где-то на толкучем купил или обменял, бог его знает, за бесценок, конечно, но сыну подарком угодил. И хотя ружье было давности мало что не столетней, заряжать его приходилось мешкотно, сыпля порох на полку, – Иван Савич обрадовался, как маленький. Детство, детство еще обитало в его натуре.
Читать дальше