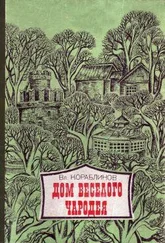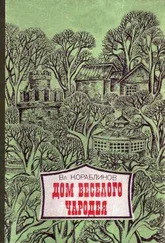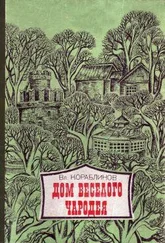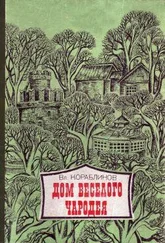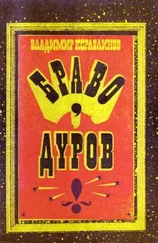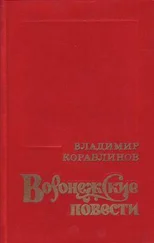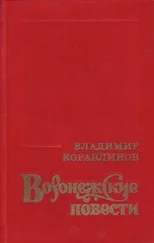Какими путями Юлия Николавна столь скоропалительно пронюхала про Настино изгнание и, главное, про вексель, выданный ей в приданое, – бог ее знает; только, как понял Ардальон, она уже на второй день Настенькиного пребывания под отчей кровлей побывала у Рафаила и все, как она говорила, устроила в наилучшем виде. Ардальон только диву давался: когда же она это все успела? Похороны отца и Настино изгнание по времени почти день в день совпадали, а ведь про невесту и ее пять тысяч тетенька сказала сразу же после похорон.
Наконец она оставила Ардальона в покое.
И тут ему, до сего дня думавшему о своей будущей священнической деятельности довольно неопределенно, даже, может быть, вовсе не думавшему, а только в отчаянии проклинавшему ее, – эта деятельность вдруг представилась со всей ясностью, во всей ее нелепости, и он ужаснулся. Она была отвратительна внешне – с бессовестным обиранием мужиков, с глупыми обрядами, с ношением длинных волос, смешных ряс и раззолоченных облачений, – но внутренне, вся исполненная обмана и притворства, она была еще омерзительней. Ему, многому научившемуся во второвском кружке, ему, увлекавшемуся естественными науками, читавшему Вольтера и Гельвеция, – ему предстояло каждый день говорить и делать то, что он считал нелепостью, жить в постоянном разладе со своей совестью. «Да, но как же другие-то?» Он, как тонущий, хватался за соломинку житейских примеров: как же другие? И вспоминал своих товарищей, которые равнодушно и даже с усмешкой готовились надеть рясу и забота и беспокойство которых заключались лишь в том, чтобы попасть в богатый приход и повыгоднее жениться.
А эта женитьба! Ни она, ни он совершенно не знают друг друга, но ему и ей прикажут быть мужем и женой… Боже ты мой, какая несуразность, какая дикость, какие потемки!
Бессонная ночь тянулась нескончаемо. Наконец посинело окошко, тетенька загремела доенкой, заскрипели ворота, заиграла пастушья дудка. Ардальон пошел на крыльцо умываться и столкнулся с Юлией Николавной.
– Мати пресвятая богородица! – ахнула она. – Ну, голубчик, и вид же у тебя! Ты что – заболел? Возьми, возьми себя в руки, Ардальоша… Этак нельзя, дружок! Нынче едем с невестой знакомиться, а на тебе лица нет…
После обеда тетенька заставила Ардальона приодеться во все новое, сама отгладила ему воротнички, сюртук, панталоны. Придирчиво, поворачивая перед собой, как куклу, оглядела кругом своего Ардальошу, и они поехали в Бродовое.
В природе уже веяло приближением осени. Поля лежали печальные, пустые; на золотистой, с ржавчиной стерне копошились грачи; небо как бы слегка полиняло, воздух сделался прозрачный, и дальние предметы словно бы приблизились.
Всю дорогу тетенька продолжала поучать и наставлять, но Ардальон, не слушая ее, думал о своем.
Сельцо Бродовое было разбросано без всякого порядка, как попало: улицы самым капризным образом кривились, заворачивали в бесчисленные проулочки, иные избы и вовсе особняком стояли на голых пустырях, иные скучивались, словно испуганные овцы. Бедность, запустение, неустройство виднелись во всем.
У одной, особенно неказистой избы, стоявшей на выгоне возле деревянной покосившейся церкви, возился какой-то лохматый мужик. Яростно, с ожесточением орудовал он метлой, подымая тучи пыли.
– Вот дурак, невежа! – сердито сказала тетенька. – Нашел время подметать… Эй, отец Рафаил! – крикнула она. – Ты бы, дружок, полегше… Такую пылищу поднял, не продохнешь!
Мужик бросил подметать и, подняв метлу, вытянулся, по-шутовски сделал «на караул».
– Брось, брось! – с досадой отмахнулась тетенька. – Шутки шутить будешь, когда уедем, а сейчас изволь, пожалуйста, не дури… Вот жениха привезла, – деловито указала на Ардальона. – Какое он об тебе может иметь суждение? А? Сообрази-ка…
Рафаил опустил метлу и засмеялся.
– А мне, мать моя, начхать, какое он может иметь обо мне сужденье, – сказал он. – Я ни тебе, ни ему в милые не навязываюсь. Пожалуйте в избу, – внезапно смахнув шутовство, добавил Рафаил.
От крыльца в рафаиловском доме остались одни порожки, да и те были так ветхи и ненадежны, что тетенька только головой покачала.
– Крыльцо-то хоть бы починил, – проворчала она, осторожно взбираясь по ступенькам.
– Э, мати, что – крыльцо! – жеребцом заржал Рафаил. – Об душе пещись некогда, а ты – крыльцо!
В сенях было полно дыма. Какая-то баба с неприятным белым, похожим на маску, плоским лицом раздувала зеленый помятый самовар. При входе гостей она попыталась изобразить на своей маске улыбку, от чего сделалась еще неприятней.
Читать дальше