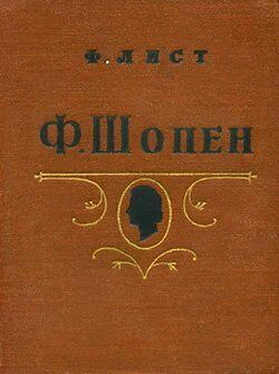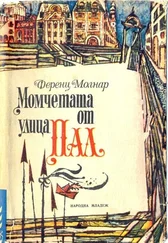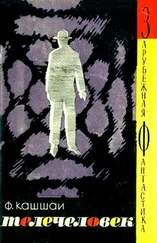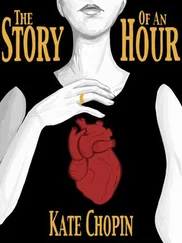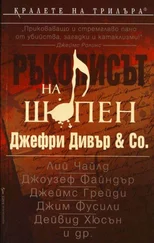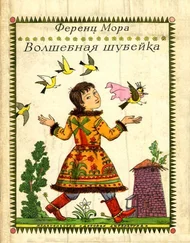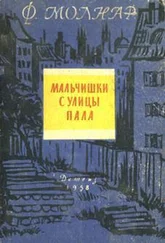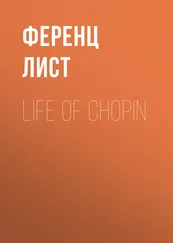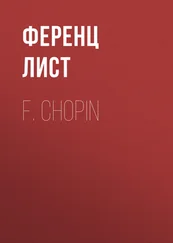Боялся ли он, что смерть не исполнит своих обещаний и, уже коснувшись его своим перстом, оставит его на земле? Что жизнь поступит с ним еще жесточе, если он вновь вернется к ней, уже порвав все связующие нити? Испытывал ли он двойственное состояние, ощущаемое некоторыми высшими натурами накануне событий, решающих их судьбу, – то явное противоречие между сердцем, чующим тайну грядущего, и разумом, не смеющим ее прозревать? То полное несходство между одновременными прозрениями, вследствие которого действия самых положительных умов иногда кажутся противоречащими их словам, хотя вытекают из одинакового убеждения? Мы полагали бы скорее, что, испытав непреоборимое желание оставить эту жизнь и сделав в Англии всё, что могло бы сократить его последние дни, он хотел устранить всё, что могло бы дать повод подозревать об этой слабости и что в другом он, с его мировоззрением, осудил бы как романтическое, театральное, смешное. Он покраснел бы, поступая, как герои мелодрам; он их ненавидел, как Бокажа [202]на сцене , как героев модного романа, которых он глубоко презирал. Если, несмотря на эту ненависть, это презрение, он не мог устоять перед огромным соблазном смерти [203]– последнего успокоения тех, кого отравило своим горьким, головокружительным зелием отчаяние, – он рассчитывал, должно быть, что никто не догадается об этой слабости, общей всем, кто ранен был женщиной такою раной, от которой излечиться можно только смертью!
Узнав о его тяжелом состоянии, [204]аббат Александр Еловицкий, один из самых видных представителей польской эмиграции, ввиду отсутствия польского священника, бывшего некогда духовником Шопена, посетил его, хотя их отношения в последние годы были натянутыми. Он трижды не был принят окружающими Шопена лицами, но слишком хорошо знал Шопена и не потерял терпения и уверенности, что увидит его, как только больной узнает о его приходе. И правда, когда он нашел средство дать знать больному о своем присутствии, он был немедленно принят. Сначала в его приеме бедным другом, умирающим, разбитым, исходящим кровью, задыхающимся, изнемогающим от страданий, чувствовался некоторый холодок, или, вернее, некоторое замешательство, объяснимое той робостью, тем внутренним трепетом, который мы испытываем всегда, когда, веря в бога и прервав с ним сношения, очутимся лицом к лицу с его служителем, один вид которого напоминает нам об отеческой его благости и неблагодарности нашего забвения.
Аббат Еловицкий пришел вновь на следующий день, затем являлся ежедневно в один и тот же час, как бы не замечая, не понимая, не допуская ни малейших изменений в их отношениях. Он говорил с Шопеном всегда по-польски, как если бы они виделись только накануне, как если бы в промежуток времени ничего не произошло, как если бы они жили не в Париже, а в Варшаве. Он рассказывал Шопену о подробностях жизни группы церковников-эмигрантов, о новых гонениях на религию в Польше, о закрытии церквей, о тысячах священников, сосланных в Сибирь за то, что не хотели отречься от своего бога, о многих мучениках, умерших под кнутом или расстрелянных за то, что отказались отречься от своей веры!.. Легко догадаться, как долго могли продолжаться подобные рассказы! Они изобиловали волнующими подробностями, одни других разительнее, трагичнее, ужаснее.
Частые визиты Еловицкого становились с каждым днем всё интереснее для больного. Они, вполне естественно, без усилий и потрясений, переносили его в родную атмосферу; они связывали настоящее с прошлым, как бы приводили его на родину, в милую сердцу Польшу, которую он видел, как никогда, окровавленной, залитой слезами, бичуемой, растерзанной, унижаемой и оскорбляемой, – но всегда царицей в своей шутовской порфире и терновом венце. Однажды Шопен запросто сказал своему другу, что давно уже не исповедывался и хотел бы это сделать; это тотчас было исполнено, так как исповедник я духовник давно уже, не заговаривая об этом, приготовились к этому величественному и прекрасному моменту.
Лишь только священник и друг произнес последние слова разрешительной молитвы, Шопен испустил глубокий вздох облегчения, с улыбкой обнял его обеими руками «по-польски», воскликнул: «Спасибо, спасибо, дорогой мой! Благодаря тебе я не умру, как свинья (jak swinia)!» Мы слышали эти подробности из уст самого аббата Еловицкого, впоследствии напечатавшего их в одном из своих «Lettres spirituelles» [ «Духовных писем»]. Он рассказал нам о глубоком впечатлении, произведенном на него этим выражением, столь простонародно-энергичном в устах человека, известного изысканностью и изяществом речи. Это слово, столь странное в его устах, казалось, выбрасывало из его сердца все скопившееся в нем отвращение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу