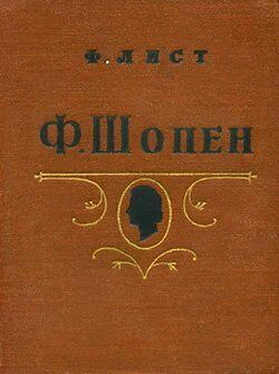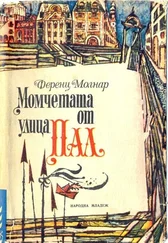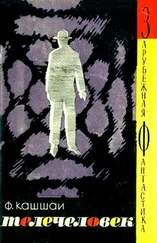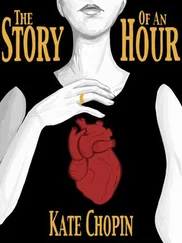Среди нас был престарелый Немцевич, [108]думалось, самый близкий к могиле из присутствующих; он слушал, в молчании, с хмурой серьезностью и неподвижностью мраморного изваяния, казалось, свои собственные «Исторические песни», воссоздававшиеся в драматическом исполнении Шопена для старца, пережившего былые времена. В этих столь популярных текстах польского барда можно было слышать звон оружия, песнь победителей, торжественные гимны, жалобы славных пленников, баллады в честь павших героев!.. Они воскрешали в памяти длинный ряд славных деяний, побед, королей, королев, гетманов… и для старца настоящее становилось иллюзией, а воскресали призраки минувшего – с такою силой оживали они и являлись под пальцами Шопена!
Дальше, отдельно от всех, вырисовывался неподвижный силуэт хмурого и безмолвного Мицкевича. [109]Этот северный Данте, казалось, по-прежнему находил «горькой соль чужбины и крутыми ступени ее лестниц». Тщетно напоминал ему Шопен о Гражине и Валленроде, этот Конрад [110] оставался как бы глух к этим звукам, и лишь одно его присутствие здесь доказывало, что он их понимает. И большего, думалось ему, и справедливо, никто и права не имел от него требовать!..
Погрузившись в кресло и опершись рукой о столик, Ж. Санд [111]внимательно слушала, благосклонно покорная власти звуков. На них всецело откликался ее пламенный гений, обладавший редким даром, свойственным избранным натурам, прозревать прекрасное во всех явлениях искусства и природы. Было ли это родом ясновидения, которое у всех народов приписывается вдохновенным свыше женщинам? Перед их магическим взором падает всякая внешняя кора, личина, грубая оболочка, и перед их умственным взором открывается в неведомой ее сущности душа поэта, в ней заключенная, идеал художника, скрытый им в потоке звуков или под покровом красок, в изгибах мрамора или за линиями гранита, за скрытым ритмом строф или за неистовыми возгласами драмы! Эта способность лишь смутно ощущается большинством ею одаренных. Ее высшим проявлением является дар оракула, раскрывающего прошлое, прорицающего будущее. Значительно более редкий, чем обычно полагают, этот дар освобождает исключительные натуры, которые он осеняет, от груза технического знания, обременяющего тex, кто устремляется в эзотерические области и достигает вершин сразу, не путем изучения тайн аналитического знания, а в частом общении с дивными синтезами природы и искусства.
Ведь именно в привычке постоянного общения с природой, составляющего прелесть и величие сельской жизни, можно найти разгадку ее чар и вместе с тем искусства, бесконеч ной гармонии линий, звуков, красок, громов и шелестов, ужасов и наслаждений! Если отважиться, не отступая ни перед какими трудностями, ни перед какой тайной, исследовать совокупность этих разительных противоречий, то можно иногда найти ключ этих аналогий, соответствий, взаимосвязей наших ощущений и чувств, одновременно усмотреть скрытые нити, связывающие кажущиеся различия, найти тождественность в противоречиях, эквивалентность в противопоставлениях, так же как увидеть, с другой стороны, пропасти, узкие, но непроходимые, разделяющие то, чему назначено сближаться, не сливаясь, уподобляться, не смешиваясь. Услышать на рассвете шопоты, которыми природа оповещает своих избранников о своих таинствах, – одна из прерогатив поэта. Еще более тонкий дар – научиться у природы проникать в замыслы человека, когда он творит в свою очередь, когда в своих созданиях разного рода он, подобно ей, использует громы и шелесты, ужасы и наслаждения; этим даром женщина-поэт владеет по двойному праву – интуиции своего сердца и своего гения.

ШОПЕН (1829) Рисунок Э. Радзивилл
После того как мы назвали имя той, чья энергическая личность и неотразимая обаятельность покорили хрупкую и нежную натуру Шопена, внушив восторг, губительный для него, как слишком хмельное вино губительно для слишком хрупкого сосуда, – мы не станем вызывать другие тени прошлого, в котором реет столько неясных образов, безотчетных симпатий, сомнительных замыслов, обманутых надежд, в котором каждый из нас мог бы видеть вновь лик рокового чувства! Увы! Из такого количества интересов, склонностей, стремлений, влечений, страстей, наполнявших эпоху, в которую случайно собрались несколько человек высокой души и светлого ума, многие ли обладали жизненной силой, достаточной для того, чтобы противоборствовать всем силам смерти, окружающим колыбель всякой идеи, всякого чувства, как и всякой индивидуальности?… Много ли найдется таких моментов, более или менее кратких, когда оказались бы неподходящими слова предельной печали: «Счастлив, кто умер! Еще счастливей, кто не родился!» Из такого количества чувств, заставлявших сильнее биться благородные сердца, сколько найдется таких, какие никогда не навлекали бы на себя этого последнего проклятья? Мог бы вновь появиться на свет, восстав из праха и выйдя из могилы (как воскрес в день мертвых, чтобы вновь пережить жизнь и претерпеть ее муки, самоубийца из поэмы Мицкевича, [112]покончивший с собою из-за любви), – хоть один покойник без ран, без увечий, без язв и следов мучений, искажающих первоначальную красу, пятнающих душевную чистоту?…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу