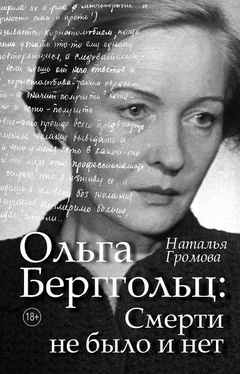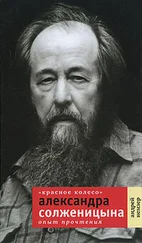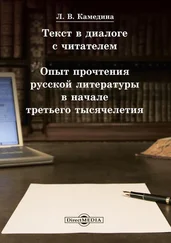Только что, выйдя из припадка, Коля стал уговаривать меня уехать из Ленинграда, если будет эвакуироваться Союз писателей.
Я должна уехать, чтоб спасти его, – ему тут очень трудно – он недоедает остро, нервничает (не из страха и трусости, конечно), стареет, хворает.
Но я не хочу уезжать из Ленинграда из-за Юрки, и, главное, из-за внутреннего какого-то инстинкта, – говорящего мне, что надо быть в Ленинграде. Почему? Точно сказать не могу. Надо – и все. Без меня он не рухнет, я знаю. Но я-то, я-то что буду делать и как буду жить? Я умру от тоски, от отсутствия дела, – хотя бы видимости дела…"
Ольга разрывалась между мужем и возлюбленным.
Евгений Шварц вспоминал потом об октябрьских днях начавшейся эвакуации и поразительной преданности Николая Молчанова: "…Я смотрел на этого трагического человека и читал почтительно то, что написано у него на лице. А написано было, что он чистый, чистый прежде всего. И трагический человек. Я знал, что он страдает злейшей эпилепсией, и особенное выражение людей, пораженных этой божьей болезнью, сосредоточенное и вместе ошеломленное, у него выступало очень заметно, что бывает далеко не всегда. И глаза глядели угнетенно. Молчанов пришел поговорить по делу, для него смертельно важному. Он, влюбленный в жену и тяжело больной, и никак не умеющий заботиться о себе, пришел просить сделать все возможное для того, чтобы эвакуировать Ольгу. Она беременна, она ослабела, она погибнет, если останется в блокаде. И я обещал сделать все, что могу, хотя понимал, что могу очень мало" [89] Шварц Е. Живу беспокойно… С. 656–657.
.
В ноябре город уже совсем не похож на тот, что был еще месяц назад. По воспоминаниям современников, на улицах после бомбежек – следы осколков от снарядов, множество домов стоят с разрушенными фасадами. Холодно и промозгло как на улицах, так и в помещениях. "Клодтовы кони сняты. Юсуповский дворец поврежден. На музее этнографии снизу доверху – огромная трещина. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора – в темных футлярах, а купол Исаакия закрашен нейтральной краской маскировки. В скверах закопаны зенитные пушки".
В первые месяцы блокады Ольга еще могла что-то изменить. Но с каждым днем отъезд становится все более и более проблематичным.
В декабре в городе отключают электричество, перестает работать канализация. У Ольги в Радиокомитете повышенный паек, но с декабря ее дневниковые записи заметно меняются: "…мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине…" Теперь она каждый день ждет, когда ей с Николаем сделают вызов на Большую землю. Но ехать можно было только по Ладоге, а дорогу постоянно бомбили.
Ситуация из ужасной делается гибельной.
"Что за ужас наши жилища! – пишет Ольга 16 декабря. – Городское хозяйство подалось как-то разом, за последнюю декаду. Горы снега на улицах, не ходят трамваи, порванные снарядами, заиндевевшие провода, тихий-тихий город, только ставенки скрипят, а в жилищах ледяной холод, почти нигде нет света, нет воды. Что у меня за руки, какое грязное лицо и тело – негде и нечем мыться! Чудеснейшие мои волосы стали серыми от копоти – у Молчановых есть буржуечка, она дымит жутко – я отвратительно грязна".
"К декабрю в людях появилось, – замечает Ольга, – какое-то холодное оцепенение, душа так же промерзла, как и все тело". Она и о себе пишет, что прошла мимо умирающего на улице, что не дала подруге кусок хлеба, который несла в больницу мужу.
"Николай не дотянет – это явно, – фиксирует она в дневнике. – Он стал уже не только страшен внешне, но жалок внутренне. Он оголодал до потери достоинства почти что. Он падает без сознания. Он как-то особо медлителен стал в движениях. Он ест жадно, широко раскрыв глаза, глотает, не чувствуя вкуса.
Он раздражает меня до острой ненависти к нему, я ору на него, придираюсь к нему, а он кроток, как мама.
Я знаю, что я сука, но ведь и на мне должно было все это сказаться".
Поняв, что через Ладогу они не переберутся, Ольга надеется улететь с Николаем на самолете. В ожидании вылета (который так и не случился) они устраивают прощальный вечер с Юрием. "Я обрадовалась Юрке, как божьему свету, – настолько, насколько могу еще радоваться теперь.
Он приехал – красивый и здоровый, влюбленный и нежный… Привез муки, масла, немножко картошки и пшена… мы устроим настоящий роскошный пир…"
А голод достигает невиданных размеров. Квартиры превращены в норы, в которых люди пытаются под кучей тряпья спрятаться от холода. Ужасно хождение за водой к проруби, когда опухшие ноги не слушаются, а тропки превращаются от разлитой дистрофиками воды в смертельный каток.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу